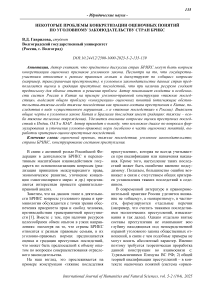Некоторые проблемы конкретизации оценочных понятий по уголовному законодательству стран БРИКС
Автор: Гаврилова В.Д.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 5-2 (104), 2025 года.
Бесплатный доступ
Автор считает, что предметом дискуссии стран БРИКС могут быть вопросы конкретизации оценочных признаков уголовного закона. Несмотря на то, что государстваучастники относятся к разным правовым семьям и дискутируют по «общим» вопросам (например, трансграничная преступность), в уголовном законодательстве данных стран предполагается оценка и градация преступных последствий, что при наличии ресурсов создает предпосылку для обмена опытом и решения проблем. Автор показывает сходства и особенности систем России и Китая на примере уголовно-правовой конструкции «тяжкие последствия», выделяет общую проблему «конкуренции» оценочных понятий (отягчающие обстоятельства-тяжкие-особо тяжкие последствия как признаки состава преступления в Китае, последствия в виде «существенного нарушения…» и «тяжкие последствия» в России). Выявлены общие черты в уголовном законе Китая и Бразилии (последняя имеет градацию: тяжкие – особо тяжкие телесные повреждения). Уделяется внимание вопросам оценки преступных последствий в Индии, ОАЭ и ЮАР. Автор приходит к выводу, что возможен диалог по вопросам формулирования и уточнения уголовно-правовых норм (особенно в части оценочных понятий), выработки критериев оценки преступных последствий.
Оценочный признак, тяжкие последствия, уголовное законодательство, страны БРИКС, конструирование составов преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/170209353
IDR: 170209353 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-5-2-135-139
Текст научной статьи Некоторые проблемы конкретизации оценочных понятий по уголовному законодательству стран БРИКС
В связи с активной ролью Российской Федерации в деятельности БРИКС и перспективным масштабным взаимодействием государств по основополагающим вопросам (реализация принципов международного права, экономическое развитие, уточнение концепции «многополярного мира» и др.) представляется интересным провести сравнительноправовой анализ.
Заметим, что на данном этапе в деятельности БРИКС вопросы уголовного права и криминологии обсуждаются с точки зрения обеспечения приоритета прав и свобод человека, противодействия трансграничной преступности [1]. Вместе с тем, при наличии ресурсов целесообразен обмен опытом в узких направлениях: несмотря на то, что страны БРИКС относятся к разным правовым семьям, в их уголовно-правовых нормах предполагается оценка и градация преступных последствий, что может быть предпосылкой к обмену опытом по вопросам совершенствования отраслевого законодательства.
На наш взгляд, это прослеживается на примере конструкции «тяжкие последствия преступления», которая не всегда учитывается при квалификации или назначения наказания. Кроме того, наступление таких последствий может быть ошибочно вменено подсудимому. Полагаем, большинство ошибок возникает в связи с отсутствием общих критериев установления тяжких последствий в содеянном.
В современной литературе и правоприменительной практике России уделяется внимание не «общему», а «конкретному», в частности, формулируются отдельные перечни (например, что считать тяжкими последствиями экологических преступлений, изнасилования и так далее). Однако отдельно взятые составы преступления не охватывают всю глубину находящихся под непосредственной охраной уголовного закона общественных отношений, в связи с чем подобные примеры не могут носить абсолютный характер. Именно поэтому требуется теоретическая проработка данной конструкции во взаимосвязи с: 1) разъяснениями Пленума ВС РФ; 2) общей теорией квалификации преступлений - в контексте оценочных понятий (система «ориен- тиров» для тяжких последствий), позволяющих определить уровень общественной опасности причиненного ущерба как более или менее высокий.
При анализе конструкции «тяжкие последствия» имеет смысл характеризовать это как особо разрушительные последствия, которые наносят охраняемому средствами уголовного права объекту урон таких масштабов, что последний трудно восстановить или вовсе не восстановить.
Верховный Суд при выявлении ошибок нижестоящих судов отметил, что «иные тяжкие последствия» должны быть по своей общественной опасности «равнозначными» наступлению тяжкого вреда здоровью или заражению ВИЧ-инфекцией (п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Судебная коллегия по уголовным делам выделила «равнозначность ориентиру» [2].
Из анализа Извлечения (полный текст не публикуется ввиду законодательных ограничений применительно к данной категории дел) из Определения ВС РФ следует, что мужчина регулярно осуществлял насилие в отношении своего сына, нарушив половую неприкосновенность малолетнего, в результате чего ребенку был причинен средней тяжести вред здоровью (что менее опасно, чем тяжкий вред). При толковании нормы, действительно, прослеживается, что это не может признаваться тяжким последствием, в связи с чем подлежит исключению.
Данное дело имеет значение для выделения критериев тяжких последствий (учет «ориентира»). Думается, что теоретическая проработка понятия требует учета как разрушительных свойств наступивших последствий, так и возможность/невозможность восстановить объект уголовно-правовой охраны после причиненного ущерба. В этой связи, полагаем, более предпочтительным критерием будет «однородность». Например, в результате убийства наносится невосполнимый урон в виде смерти. В свою очередь, тяжкий вред здоровью, несмотря на опасность, длительность, значительность, интенсивность и потерю органов, позволяет потерпевшему осуществлять жизнедеятельность, в связи с чем нецелесообразно признать такой признак тождественным/ «равнозначным» смерти (но при этом он, несомненно, однороден смерти ввиду особо разрушительных свойств).
Вместе с тем, заметим, что процесс поиска ориентира может быть усложнен расположением в норме квалифицирующих признаков. Например, по смыслу конструкции п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ при установлении тяжких последствий необходимо сопоставить наступившие последствия со смертью человека. В связи с отсутствием разъяснений Пленума ВС РФ содержание данного признака обсуждалось на некоторых научно-практических мероприятиях, но в целом молодые ученые указывали на «обычное» понимание оценочного понятия: учесть наиболее разрушительные последствия или же «нетипичные» (хотя из теории уголовного права следует, что общественно опасные последствия рассматриваются в пределах соответствующего состава, в связи с чем логично, что законодатель подразумевает такие тяжкие последствия, которые как признак будут «типичны» для содеянного).
В свою очередь, отметим, что для квалификации важа не только связь с жизнью и здоровьем, но и форма вины: по смыслу нормы можно учесть, например, тяжкий вред здоровью, наступивший по неосторожности. Любопытно, что суды устанавливают последний в ситуациях, когда потерпевший выпрыгивает из окна, в том числе многоэтажного дома, и таким образом получает повреждения. Суды исходят из того, что похитители могли и должны были предвидеть подобную ситуацию, вызванную естественным желанием освободиться [3].
Данный подход интересен с учетом отсутствия разъяснений высшего судебного органа РФ, при этом могут возникнуть вопросы, например, входит ли в обязанности виновного лица предвидеть такую «необычную» ситуацию (если исходить из того, похищенному лицу дорога жизнь, вряд ли можно допустить, что лицо прыгнет с высоты). Подобные вопросы возможно разрешить со ссылкой на то, что именно виновное лицо, совершив преступление, создало такую обстановку (если к потерпевшему было применено насилие, закономерна ссылка на сильное душевное волнение).
Примечательно, что конструкция «тяжкие последствия» содержится и в уголовном зако- нодательстве КНР [4] (далее – УК КНР). Анализируя документ и выделяя его особенности, можно наблюдать общие с российским правом черты.
Первая особенность: законодатель Китая в целом предлагает градацию оценочного понятия, которая по-разному демонстрируется в переводе, в том числе главы 4 «Преступления против прав личности, демократических прав граждан» (ст. 232-262). Хуан Даосю использует 3 термина: «серьезные», «тяжкие» и «особо тяжкие» последствия; в главе 4 – только «иные серьезные последствия» [5, с. 21]. Р.В. Пашков в тексте не использует характеристику «серьезные», при переводе главы 4 автор указывает на «тяжкие последствия» [6].
В главе 4 УК КНР упоминание тяжких последствий встречается в следующих статьях: ст. 236 (изнасилование), 237 (развратные действия в отношении ребенка), 240 (похищение женщины и ребенка с целью продажи), 243 (ложный донос), 250 (публикация дискриминирующих и оскорбляющих национальные меньшинства материалов, далее – публикация дискриминирующих материалов).
Имеется значимое сходство в формулировании ст. 236 УК КНР и ст. 131 УК РФ. Китайское законодательство позволяет квалифицировать половое сношение с несовершеннолетней, не достигшей 14 лет, как изнасилование. Российское законодательство аналогичным образом защищает как девочек, так и мальчиков, в том числе и от развратных действий (особо квалифицированные составы), предоставляя, таким образом, более комплексный механизм.
Отметим, что тяжкие последствия по УК РФ и УК КНР в целом имеют похожие ориентиры. По смыслу п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ (форма вины – по неосторожности) тяжкие последствия однородны причинению тяжкого вреда здоровью потерпевшей или заражению ее ВИЧ-инфекцией. Последствие в виде смерти по неосторожности нашло отражение в ч. 4 ст. 131 УК РФ. В свою очередь, п. 7 ст. 236 УК КНР (как и п. 7 ст. 240 УК КНР) содержит следующие «ориентиры» для тяжких последствий: тяжкое телесное повреждение и смерть.
Вторая особенность – оценочная деятельность по УК КНР сложнее, чем по УК РФ: согласно УК КНР правоприменитель должен сопоставлять не только оценочный признак и формально определенный ориентир, но и оценочные признаки между собой. Отметим, что имеются в виду не просто признаки «тяжкие» и «особо тяжкие» последствия. Так, из статей 243 и 250 следует, что «ложный донос» и публикация дискриминирующих материалов изначально осуществляются «при отягчающих обстоятельствах». Если деяния повлекли «тяжкие» («серьезные») последствия, то наказание увеличивается.
В качестве одной из проблем уголовного законодательства КНР можно выделить отсутствие уточнений по вопросам содержания отягчающих обстоятельств как признака основного состава. В научной литературе указана особая жестокость, массовость и иные схожие обстоятельства в качестве выработанных судебной практикой КНР и уточненных в отдельных комментариях [7, с. 81]. Отметим, что вследствие резкого сокращения публикуемых решений вероятность размещения в открытом доступе дел по интересующим нас категориям снижается [8].
Вместе с тем, считаем, что постановка проблемы «конкуренции» оценочных признаков (в том числе, в преступлениях против личности) уместна, поскольку сложно проследить повышение типовой степени общественной опасности. В УК РФ подобная ситуация наблюдается реже, в ст.ст. 285, 286: тяжкие последствия (особо квалифицирующий признак) должны быть более разрушительными, чем последствие в виде «существенного нарушения прав…» (признак основного состава). Описанная проблема может стать предметом обсуждения между законодателями России и КНР, которые, возможно, остановятся на одном оценочном понятии.
В свою очередь, изучив уголовно-правовые нормы Индии [9], Бразилии [10], ОАЭ [11], а также отдельные положения ЮАР (например, Закон о предупреждении торговли людьми) [12], мы пришли к выводу, что эти государства при конструировании составов преступления не используют признак «тяжкие последствия». Вместе с тем, в правоприменении стран, несомненно, имеется оценка преступных последствий. Это подтверждается и в юридической литературе: например, термин ст. 39 УК Индии «свободоволие» («voluntarily») сочетает элементы субъектив- ной стороны (которая тоже часто «оснащена» оценочными понятиями) и последствия [13, c. 80].
Так, например, законы ЮАР требуют учитывать при постановлении приговора степень насилия, которому подверглась жертва. Риск причинения тяжких телесных повреждений – основание для права на «законную защиту» (подобно необходимой обороне) согласно УК ОАЭ (ст. 60) и Индии (ст. 99).
Это прослеживается и в уголовном праве Бразилии, причем имеются сходства с подходом законодателя КНР. Во-первых, в ст. 122 УК Бразилии имеется градация оценочных понятий: «Если членовредительство или попытка самоубийства приводят к тяжким или особо тяжким телесным повреждениям…». Заметим, что с 2021 г. в УК Бразилии также отдельно выделяется «серьезность последствий» как критерий при назначении наказания за кражу (§ 4º-С ст. 155): правопримени- тель оценивает последствия и может увеличить размер наказания на 1/3, 2/3 или вдвое.
Во-вторых, преступные последствия тоже часто описываются с точки зрения усиления наказания. Это прослеживается на примере многих составов преступления, в том числе против личности: оставление в опасности (ст. 134), неоказание медицинской и иной помощи (ст. 135), «создание опасности…» (ст.
136; подобно истязанию). Уточним, что в УК Бразилии это описывается сплошным текстом, не через призму классификации составов преступления, имеющейся в уголовном праве России (более того, в УК Бразилии только 3 раза используются конструкции, аналогичные «квалифицированному составу»: «квалифицированная» форма, кража и ущерб).
Таким образом, сравнительно-правовой анализ конструирования составов преступления с признаком «тяжкие» / «серьезные» последствия в уголовно-правовых нормах стран БРИКС подтверждает актуальность направления по совершенствованию формулирования и применения норм уголовного права.
Ввиду того, что правоприменение во всех странах БРИКС предполагает оценку последствий, а подходы законодателей России и КНР, КНР и Бразилии при конструировании составов преступления имеют общие черты, то предметом дискуссии могут стать: 1) разрешение проблемы «конкуренции» оценочных признаков; 2) выработка критериев установления оценочных понятий (например, определение тяжких последствий зависит от указанной в работе разрушительности, влияния на возможность восстановить объект / «восполнить урон», однородность ориентиру, что актуально для квалификации, и т.д.).