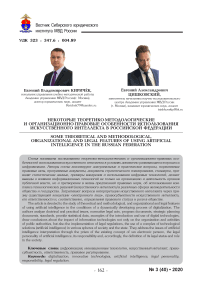Некоторые теоретико-методологические и организационно-правовые особенности использования искусственного интеллекта в Российской Федерации
Автор: Киричк Евгений Владимирович, Цишковский Евгений Александрович
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 3 (40), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию теоретико-методологических и организационно-правовых особенностей использования искусственного интеллекта в условиях динамично развивающегося процесса цифровизации. Авторы статьи анализируют доктринальные и практические вопросы, нормативные правовые акты, программные документы, документы стратегического планирования, стандарты, приводят статистические данные, примеры внедрения и использования цифровых технологий, делают выводы о влиянии информационных технологий не только на организацию и деятельность органов публичной власти, но и претворение в жизнь предписаний правовых норм, об использовании комплекса технологических решений (искусственного интеллекта) в различных сферах жизнедеятельности общества и государства. Затрагивают вопросы интерпретации искусственного интеллекта через призму существующей концепции «электронного лица», правосубъектности искусственного интеллекта, его ответственности и, соответственно, определения правового статуса и роли в обществе.
Цифровизация, инновационные технологии, искусственный интеллект, правосубъектность, ответственность, правовое регулирование
Короткий адрес: https://sciup.org/140250087
IDR: 140250087 | УДК: 323
Текст научной статьи Некоторые теоретико-методологические и организационно-правовые особенности использования искусственного интеллекта в Российской Федерации
С тремительное развитие информационных технологий способствовало глобальной интеграции цифровой инфраструктуры не только в сферу государственных услуг, но и образования, бизнеса, здравоохранения, культуры, бытового обслуживания и т.д. Кроме того, взаимодействие государств и компаний по обмену информацией, опытом, современными технологиями позволило улучшить качество цифровых продуктов, обеспечить их доступность для широкого круга пользователей.
Сегодня развитие информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) вышло на такой уровень, когда все сферы жизнедеятельности человеческого общества оказались под их пристальным влиянием, а круг вопросов, касающихся их применения, вышел за рамки сугубо технического понимания, охватив морально-нравственные, правовые и даже философские стороны, что позволило по-иному взглянуть на устоявшееся понимание компьютерной техники, вычислительных сетей, баз данных, программного обеспечения и т.д.
О важности технологических преобразований неоднократно говорил Президент Российской Федерации в своих Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации, делая акцент на развитии искусственного интеллекта, генетики, новых материалов, цифровых технологий. «Убежден, – отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин, – мы способны достичь здесь такого же прорыва, как и в оборонной сфере»1.
Сегодня наступил период, когда темпы разработки и внедрения инновационной продукции, интеллектуальных систем управ- ления2 являются определяющими факторами конкурентоспособности национальных экономик и стратегий безопасности3. На эти цели выделяются колоссальные средства. Так, в 2018 году мировой рынок технологий искусственного интеллекта, составил 21,5 млрд долларов США, а, по оценкам экспертов, к 2024 году достигнет почти 140 млрд долларов США4.
В Российской Федерации на развитие цифрового производства и робототехники также выделяются значительные средства. Так, в 2021 году из федерального бюджета предусмотрено выделить на эти цели 763652,5 тыс. рублей, а в 2022 – 1198352,5 тыс. рублей5.
В связи с этим к 2024 году должны быть созданы правовые условия, существенно возрасти научные исследования в области искусственного интеллекта, международный обмен знаниями между специалистами, создана инфраструктура, обеспечен доступ к данным, соответствующий методологиям их сбора и разметки, существенно возрасти количество специалистов, обладающих соответствующими компетенциями. А уже к 2030 году необходимо создать микропроцессоры, гибкую систему нормативного правового регулирования, разработать программное обеспечение, обеспечить реализацию образовательных программ мирового значения для подготовки специалистов и руководите-лей6.
Кроме того, приоритетной задачей, наряду с организацией всеобщего доступа к ИКТ, является интенсификация внедрения и использования самих технологий (робототехника, радиотехника, облачные и туманные вычисления, искусственный интеллект и т.д.), что должно соответствовать высокому уровню интеллектуального и культурного развития граждан России1.
Важно сказать, что с принятием Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года многие вопросы, связанные с понятийным аппаратом, принципами, целями, задачами, приоритетными направлениями развития и использования искусственного интеллекта, отпали.
Однако по-прежнему ни в одном федеральном законе не закрепляются такие понятия, как робот, объекты робототехники, роботизация, базовые правила робототехники и т.д., они встречаются только лишь в документах стратегического планирования.
Данная область является наиболее разработанной в сфере стандартизации. Например, в России действуют ГОСТ Р ИСО 8373-2014 «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения», ГОСТ Р 60.0.0.2-2016 «Роботы и робототехнические устройства. Классификация», ГОСТ Р 60.1.2.1-2016 «Роботы и робототехнические устройства. Требования по безопасности для промышленных роботов», ГОСТ 26050-89 «Роботы промышленные. Общие технические требования»2.
Кроме того, реализуются федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлению «Ме- хатроника и робототехника» (уровни бака-лавриата3 и магистратуры4), в соответствии с которыми осуществляется подготовка специалистов, действует профессиональный стандарт «Оператор мобильной робототехники»5.
На современном этапе Россия существенно отстает в развитии законодательства в сфере цифровизации. Для решения этих проблем разработан федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»6, который направлен в первую очередь на совершенствование правового регулирования, в том числе трансграничного, вопросов формирования единой цифровой среды, электронного гражданского оборота, внедрения и использования инновационных технологий, стимулирования развития цифровой экономики, автоматизации процессов нормотворчества и правоприменительной практики7.
Широкое использование искусственного интеллекта, объектов робототехники непременно порождает массу вопросов, в том числе связанных с появлением правоотношений нового вида, ранее не известных юридической науке и практике и требующих их должного регулирования. Например, наводит к размышлению тема об использовании искусственного интеллекта в области авторского права и принадлежности прав на произведения, созданные роботами.
Объекты авторских прав (произведения, искусства, науки и литературы, программы для ЭВМ) находятся под непосредственной охраной авторского права только при наличии следующих условий: это наличие, во-первых, объективной формы и, во-вторых, творческого характера. И если, например, гипотетически предположить, что роботом будет создано какое-то произведение, возникнет вопрос авторства, ибо в соответствии с ГК РФ автором признается гражданин, который посредством творческого труда создал такое произведение.
В связи с этим требуется законодательно закрепить базовые понятия и принципы в данной сфере, области применения объектов робототехники и порядок ввода их в эксплуатацию, ответственность и систему страхования, а также ограничения по их созданию и использованию. Надо сказать, что работа в этом направлении ведется, так, в целом ряде федеральных законов закреплены положения, касающиеся использования беспилотных летательных аппаратов1.
В современном мире комплекс технологических решений (искусственный интеллект) активно, хотя и неравномерно, внедряется и используется во всех сферах жизнедеятельности общества и государства (экономической, социальной, политической, культурно-духовной). Прорывными темпами его применение идет, например, в сфере здравоохранения, где вопросы информатизации и цифровизации выходят на первый план и не обходят стороной ни один вопрос, связанный с развитием медицины, особенно когда речь идет о повышении качества и доступности медицинской помощи для населения.
Широкие возможности использования искусственного интеллекта позволяют говорить о замене в ближайшем обозримом будущем специалистов в отдельных сферах деятельности. Вместе с тем в тех областях, где преобладающими являются межличностные взаимоотношения, роботы полностью вытеснить последних не смогут, поскольку не обладают свойствами психики, эмоциями, гибкостью мышления, способностью индивидуально подойти к разрешению проблемы с учетом специфических особенностей собеседника.
Такой подход к интерпретации искусственного интеллекта основан, в первую очередь, на существующей концепции «электронного лица», привлекающей пристальное внимание ученых и практиков [3, с. 8-12; 6, с. 69-73; 7, с. 63-71; 10, с. 68-83]. И если действительно исходить из автономии искусственного интеллекта, его способности осознавать свои действия, то поневоле возникает вопрос о его ответственности и, соответственно, определении правового статуса и роли в обществе.
Для признания субъектом правоотношения лицо должно быть наделено правосубъектностью (правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью). Если следовать логике гражданского законодательства, физические и юридические лица обладают своими гражданскими правами, своей волей и в своем интересе. Вопрос о том, являются ли воля и интерес в данном случае осознанными, мыслительными процессами функционирования искусственного интеллекта, а также определяющими факторами для признания его юридического статуса, является дискуссионным, выходящим за рамки юридической науки, и требующим также серьезного комплексного социологического, психологического и философского исследования [1, с. 46-62; 5, с. 91-109; 8, с. 17].
Что в данном случае не вызывает никаких сомнений, так это характеристика юридического интереса, являющегося целью и предпосылкой субъективного права [2, с. 58]. Именно его целевая составляющая и позволяет заключить, что искусственный интеллект не обладает самостоятельным интересом, а является всего лишь компьютерной программой, созданной человеком для удовлетворения его же (человека) потребностей. Соответственно, в сферу охраны и защиты подпадут исключительно интересы лиц, применяющих или приобретающих искусственный интеллект.
Придание большей автономии роботам, как отмечается в Резолюции Европейского парламента от 16 февраля 2017 г.1, позволяет изменить подход к пониманию их как простых средств в руках создателей, владельцев и т.д. В документе обращается внимание на необходимость рассмотрения вопроса об ответственности за ущерб, нанесенный роботами, и, в определенном контексте, отмечается невозможность таковой за деяния (действия, бездействия), наносящие ущерб третьим лицам.
С этим нельзя не согласиться, ибо ответственность – это способность претерпевать тяготы и лишения в связи с совершением неправомерного деяния (правонарушения), которое, в свою очередь, предполагает наличие вины – психического отношения лица к совершенному деянию и его последствию. Отсутствие психики у искусственного интеллекта никем не оспаривается.
Попытки создания электронного юридического лица в мировой практике уже имели место быть и, надо сказать, весьма небезуспешно. Это децентрализованные автономные организации, управляемые при помощи так называемых смарт-контрактов – программных кодов (фрагментов кодов), направленных на реализацию заложенных в них условий, в автоматическом или в полуавтоматическом режиме, либо определенная компьютерная программа, размещенная в блокчейне. Важными особенностями использования таких контрактов являются четко зафиксированные предмет контракта и условия автоматического исполнения, уверенность сторон контракта в неизменности кода, цифровая идентификация, обеспечение записи смарт-контракта.
Все это обусловливает научный интерес ученых к исследованию проблемных вопросов. И, если положительные стороны смарт-контрактов очевидны – это самоиспол-няемость и гарантированность выполнения условий всеми участниками процесса, конфиденциальность, надежность, оперативность исполнения, относительно низкая стоимость, то среди отрицательных сторон можно выделить низкую грамотность специалистов-программистов компаний и возможность допущения ими ошибок в коде (человеческий фактор), а также правовые риски. Кроме этого, по мнению экспертов, повсеместное внедрение смарт-контрактов возможно будет только тогда, когда 95% наших граждан перейдут на электронную систему автоплатежей [9]. Судя по всему, это реализовать в ближайшей перспективе вряд ли удастся. Об этом говорят и статистические данные. Так, по данным Росстата, в 2019 году граждане, являющиеся активными пользователями сети Интернет (население, использовавшее сеть Интернет не реже одного раза в неделю) в возрасте от 50 до 59 лет, составляли всего 8,5% от всего населения страны в возрасте 15 лет и старше2.
Конечно, ни для кого не секрет, что все новое, неоднозначно воспринимаемое на начальных этапах, по прошествии определенного времени становится обыденными. Очевидно одно – меняется архитектура политической коммуникации. И этот процесс закономерен, поскольку явный рост масштабов современных технологий является отличительной особенностью настоящих процессов глобализации и одновременно влечет за собой множество загадок, способных трансформироваться в серьезные риски и угрозы поступательного развития общества и государства [4, с. 10].
В заключение можно сделать следующие выводы.
Во-первых, искусственный интеллект, как сложный, автономный программно-аппаратный комплекс технологических решений, способен не только собирать, передавать и обрабатывать информацию, но и принимать и реализовывать собственные решения, самосовершенствоваться, адаптируясь к окружающей действительности, коммуницировать с другими системами, выполнять когнитивные функции.
Во-вторых, как представляется, концепция правосубъектности искусственного интеллекта не выдерживает никакой критики, она противоречива, уязвима и не может строиться на общих со статусом физического или юридического лица принципах правового регулирования. Для этого необходимо разработать комплекс собственных правовых норм, которые определили бы особый статус искусственного интеллекта в информационно-цифровом пространстве, ориентированный на обеспечение интересов человека, общества и государства.
Список литературы Некоторые теоретико-методологические и организационно-правовые особенности использования искусственного интеллекта в Российской Федерации
- Архипов, В.В. Искусственный интеллект и автономные устройства в контексте права: о разработке первого в России закона о робототехнике / В.В. Архипов, В.Б. Наумов // Труды СПИИРАН. - 2017. - Вып. 55.
- Братусь, С.Н. Субъекты гражданского права / С.Н. Братусь. - М.: Гос. издат. юрид. лит., 1950.
- Морхат, П.М. Возможности, особенности и условия применения искусственного интеллекта в юридической практике / П.М. Морхат // Администратор суда. - 2018. - N 2.
- Пожарский, Д.В. Искусственный интеллект и человеческий разум в государственно-правовой реальности / Д.В. Пожарский // Труды Академии управления МВД России. - 2020. - N 1 (53).
- Понкин, И.В. Искусственный интеллект с точки зрения права / И.В. Понкин, А.И. Редькина // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Юридические науки. - 2018. - N 1. - Т. 22.
- Попова, Н.Ф. Основные направления развития правового регулирования использования искусственного интеллекта, роботов и объектов робототехники в сфере гражданских правоотношений / Н.Ф. Попова // Современное право. - 2019. - N 10.
- Ролинсон, П. Объекты интеллектуальной собственности, создаваемые с помощью искусственного интеллекта: особенности правового режима в России и за рубежом / П. Ролинсон, Е.А. Ариевич, Д.Е. Ермолина // Закон. - 2018. - N 5.
- Рыженков, А.Я. Действие своей волей и в своем интересе как принцип гражданского законодательства / А.Я. Рыженков // Юрист. - 2014. - N 16.
- Урошлева, А. Смарт-контракты - сигнал к цифровизации бизнес-среды / А. Урошлева. - URL: https://www.garant.ru/article/1306549/ (дата обращения: 9 июня 2020 г.)
- Харитонова, Ю.С. Правовой режим результатов деятельности искусственного интеллекта / Ю.С. Харитонова // Современные информационные технологии и право: монография / отв. ред. Е.Б. Лаутс. - М.: Статут, 2019.