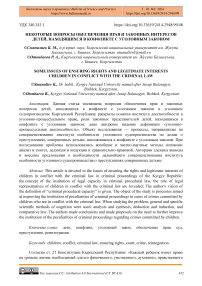Некоторые вопросы обеспечения прав и законных интересов детей, находящихся в конфликте с уголовным законом
Автор: Сманалиев К.М., Отонбаева Р.А.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 2 т.10, 2024 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена вопросам обеспечения прав и законных интересов детей, находящихся в конфликте с уголовным законом в уголовном судопроизводстве Кыргызской Республики; раскрыты понятия института дееспособности в уголовно-процессуальном праве, роли законных представителей детей, находящихся в конфликте с уголовным законом; дано авторское видение дефиниции «уголовно-процессуальная дееспособность». Объект исследования - процессы, направленные на совершенствование института особенности уголовного судопроизводства по делам о преступлениях, совершенных детьми, находящимися в конфликте с уголовным законом. При исследовании проблемы использовались всеобщие и частно-научные методы познания: анализ и синтез, дедукция и индукция и сравнительно-правовой. Авторами сделаны выводы и внесены предложения о необходимости дальнейшего совершенствования института особенности уголовного судопроизводства о преступлениях совершенных детьми.
Дети, конфликт, уголовный закон, обеспечение прав, суд, преступление, реинтеграция
Короткий адрес: https://sciup.org/14129858
IDR: 14129858 | УДК: 340.343.1 | DOI: 10.33619/2414-2948/99/48
Текст научной статьи Некоторые вопросы обеспечения прав и законных интересов детей, находящихся в конфликте с уголовным законом
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 340.343.1
Согласно ст. 27 Конституции Кыргызской Республики: «Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития. В Кыргызской Республике действует принцип обеспечения наилучших интересов ребенка» [1].
В свете данных конституционных положений следует отметить, что дети до достижения совершеннолетия, формирования личности, проходят разные этапы физиологического и психического и иного развития. Специфика поведения подрастающих детей проявляется в эмоциональности, чрезмерной инертности или гиперактивности, в стремлении копирования взрослых и т. д. Бытует мнение о том, что характерными чертами детей являются стремление к взрослой жизни, появление чувства самостоятельности, повышенная любознательность и тяга к общению с взрослыми для получения интересующей информации. В то же время у детей легкоранимая психика вследствие неполной развитости нервной системы, а также характерна для них развивающееся образное мышление, память и др. [2].
А. Н. Леонтьев в свое время писал, что «Личностью не рождаются, личностью становятся» [13]. Таким образом, ребенок еще не состоялся как личность, поэтому ему крайне необходима забота, охрана и защита. В понятие правосудия для детей входят дети, находящиеся в конфликте с законом (то есть обвиняемые или формально считающиеся нарушившими уголовный закон), дети, являющиеся потерпевшими и свидетелями, а также дети, попавшие в правовую систему по другим причинам, таким как как забота, защита и наследование (как участники процесса). Эту концепцию можно считать всеобъемлющей, и она направлена на то, чтобы принести пользу всем детям, столкнувшимся с системой уголовного правосудия или аналогичными системами, принимая во внимание наилучшие интересы ребенка. Он охватывает такие вопросы, как предотвращение, перенаправление, реабилитация, оказание помощи и меры защиты. Понятие правосудия в отношении детей отличается от термина «ювенальная юстиция» тем, что оно распространяется не только на детей, находящихся в конфликте с законом, но и на детей, затронутых судебным процессом. Защита благополучия и развития ребенка тесно связана с защитой его интересов. Он подтверждает необходимость дополнительных средств и мер по защите ребенка ввиду его уязвимости и ответственность государства за обеспечение этой защиты. Защита благополучия ребенка выходит за рамки защиты ребёнка от вреда, например, путем пересмотра условий содержания детей или введения законов, запрещающих телесные наказания. Это означает проведение мероприятий, направленных на здоровое развитие ребенка, что требует более активного подхода. Это означает предоставление профессионального или общего образования детям, находящихся в местах заключения, а также защиту от всего, что может помешать развитию самого ребенка.
-
А. А. Пергатая отмечает, что жизненные этапы развития молодых людей находятся в нестабильном положении, то есть в своеобразном переходном процессе. Вследствие неполной зрелости, совершения действий базирующихся на нестабильном эмоциональном состоянии и инстинкта, ребенок пребывает на уровне «нормальной аномалии» [3].
Подавляющее большинство детей в процессе взросления непреднамеренно идут на правонарушения, тем самым вступают в конфликт с законом и попадают в систему уголовной ювенильной юстиции. Тем не менее, понятия «несовершеннолетний», «дети», «ребенок» содержится во многих отраслях отечественного права и имеет особый подход в правовом регулировании. К примеру, если обратимся к Гражданскому кодексу Кыргызской Республики [4], то ст. 61 регламентирует такие вопросы, как «Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет». В частности, ч. 1 данной статьи гласит: «Дети в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением, названных в п. 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных представителей
— родителей, усыновителей или попечителей».
Однако, в ГК КР имеются случаи, признания ребенка полностью дееспособным. Так, ч.1 ст. 62 ГК КР предусматривает следующее: «Ребенок, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление ребенка полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению территориального подразделения уполномоченного государственного органа по защите детей — с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия — по решению суда». Данный процесс гражданское законодательство именует «эмансипацией». А в силу ч. 2 данной статьи уже «Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного ребенка, в частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда». В отличие от гражданского законодательства, эмансипация детей не распространяется на уголовно-процессуальное законодательство. Процессуальное положение детей в уголовном судопроизводстве, содержанием которого являются права и обязанности, сохраняются вплоть до достижения восемнадцатилетнего возраста и признается «Особым производством». Исключение составляет лишь полное или частичное возмещение причиненного ущерба потерпевшему самим ребенком или его законными представителями, а также другими лицами (ст. 472 УПК КР). Вполне понятно, что нами упоминается лишь гражданско-правовая дееспособность детей, а как же быть с уголовно-процессуальной дееспособностью. В уголовно-процессуальном законодательстве не говорится об «уголовнопроцессуальной дееспособности». На постсоветском пространстве учеными-процессуалистами не раз отмечалась о востребованности во введении института уголовнопроцессуальной дееспособности [5–7].
Определение уголовно-процессуальной дееспособности встречается в так называемом «Модельном уголовно-процессуальном кодексе для государств — участников СНГ» [8]. Под ним понимают возможность участников процесса самостоятельно осуществлять права (ч. 1 ст. 107), согласно ч. 4 данной статьи лица от 14 до 18 лет обладают частичной уголовнопроцессуальной дееспособностью выраженную в ограничении возможности самостоятельно осуществлять ими права волеизъявлением их законных представителей. Что касается уголовно-процессуальной науки, то относительно уголовно-процессуальной дееспособности можно встретить различные точки зрения ученых.
-
В. Д. Адаменко полагает, что уголовно-процессуальная дееспособность представляет собой способность лица совершать процессуальные действия, реализовывая при этом права и исполняя обязанности участника процесса [9].
Ю. В. Песковая в уголовно-процессуальной дееспособности видит реальную способность осознания своего процессуального статуса, восприятия фактов, имеющих значение для уголовного дела, а также в самостоятельности осуществления процессуальных прав и совершать процессуальные действия [10].
По мнению Н. В. Солонниковой уголовно-процессуальная дееспособность — это совокупность условий создающих участнику процесса возможность самостоятельно проводить уголовно-процессуальные действия и принимать соответствующие решения в рамках уголовно-процессуального закона, для защиты законных интересов, с осознанием последствия их осуществления и ответственности за неисполнение обязанностей [7].
Если связывать уголовно-процессуальную дееспособность со способностью совершать процессуальные действия или принятие процессуальных решений, то с поля зрения исчезают остальные участники процесса, поскольку таковыми правами обладают, лишь лица, осуществляющие уголовное судопроизводство. Следовательно, по своему содержанию подобные определения уголовно-процессуальной дееспособности порождают научную полемику.
Можно согласиться с П. В. Полосковым, который дал наиболее четкую трактовку, где под уголовно-процессуальной дееспособностью понимается способность участника уголовного процесса, персонально реализовывать свои права и нести обязанности по уголовному делу или поручить это представителю. Последнее касается именно детей, не достигших 18-летнего возраста, где для реализации прав и исполнения обязанностей по уголовному делу обязательно привлекаются защитник и законный представитель [11].
В теории уголовного процесса часто упоминаются в качестве главных условий уголовно-процессуальной дееспособности возраст, психическое развитие и соответствующий уровень развитости интеллекта [7].
Ведь не случайно, законодатель в п.3 ч.1 ст. 458 УПК КР в числе обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступлениях детей, указывает на возраст, «степень интеллектуального, волевого и психического развития, особенности характера и темперамента, потребности и интересы». Кроме этого, ч. 2 ст. 466 УПК КР предусматривает норму, по которой «Для определения уровня интеллектуального, волевого, психического развития, иных социально-психологических черт личности обвиняемого ребенка может быть назначена психологическая экспертиза».
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что учеными обоснованно предлагается введение в научный оборот понятие «уголовно-процессуальная дееспособность подозреваемого, обвиняемого» а также «частичная уголовно-процессуальная дееспособность» [12], которая находит свою поддержку среди процессуалистов. Мы также согласны с подобными предложениями, так как именно сквозь призму понимания уголовнопроцессуальной дееспособности, можно уяснить такие категории, как процессуальноправовой статус того или иного участника процесса.
Не менее важным является вопрос достижения детей, находящихся в конфликте с законом 18-летнего во время производства следствия или же рассмотрения уголовного дела в суде. Единственное упоминание об обстоятельствах достижения ребенка совершеннолетия (18 лет) во время осуществления уголовного судопроизводства встречается в ч. 4 ст. 477 УПК КР, которая гласит: «Если до начала рассмотрения дела в суде первой инстанции, в апелляционном, кассационном порядках обвиняемый (осужденный, оправданный) достиг 18летнего возраста, суд постановляет (определяет) о прекращении функций законного представителя». Значит, в данном случае законный представитель прекращает свои функции при достижении ребёнка совершеннолетия, именно в судебных стадиях уголовного процесса, а не на стадии производства следствия. Вполне понятно, что с лицо от частичной уголовнопроцессуальной дееспособности переходит к полной уголовно-процессуальной дееспособности, то есть, по мнению законодателя у лица появляется возможность самостоятельно осуществлять права и исполнять обязанности.
Более того, несмотря на достижение лица совершеннолетия, следствие по всей вероятности, будет проводиться с применением норм, указанных в Разделе XIV «Особый порядок уголовного судопроизводства», а в частности Главы 54 УПК КР «Порядок уголовного судопроизводства по делам о преступлениях, совершенных детьми, находящимися в конфликте с законом». На наш взгляд, следовало бы в подобных случаях исходить не только из достижения определённого возраста, но и обращать внимание на интеллектуальное, психофизиологическое развитие лица. Наиболее, целесообразным видится два варианта:
-
1. Распространение особенностей производства по делам о преступлениях, совершенных детьми, находящимися в конфликте с законом и при достижении ими совершеннолетия на судебные стадии уголовного процесса, поскольку преступление было совершено до достижения совершеннолетия;
-
2. Если лишение функций законных представителей осуществляется в отношении обвиняемых (осужденных, оправданных) достигших совершеннолетия в судебных стадиях уголовного судопроизводства, то нужно такое положение распространить и на досудебное производство, так как уже наступает полная уголовно-процессуальная дееспособность и данное лицо может самостоятельно защищать свои права и выполнять обязанности.
На основании вышеизложенного мы пришли к следующим выводам:
-
1. Определено следующее: Под уголовно-процессуальной дееспособностью понимается способность участника уголовного процесса, персонально реализовывать свои права и нести обязанности по уголовному делу или поручить это представителю.
-
2. Считаем целесообразным внести изменение и дополнение в ч. 4 ст. 477 УПК КР и изложить ее в следующей редакции: «Если в ходе проведения следствия или рассмотрения дела в суде, обвиняемый (осуждённый, оправданный) достиг 18-летнего возраста, то следователь, суд постановляет (определяет) о прекращении функций законного представителя».
Список литературы Некоторые вопросы обеспечения прав и законных интересов детей, находящихся в конфликте с уголовным законом
- Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом 11 апреля 2021 года. https://kurl.ru/dYUsC
- Костина Л. Н. Об использовании специальных психологических знаний при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетнего // Мировой судья. 2011. №7. С. 2-6. EDN: NYJIKZ
- Пергатая А. А. Уголовная ответственность несовершеннолетних по законодательству Федеративной Республики Германии: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Омск, 2000. 23 с.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года №15. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2023 г.). https://kurl.ru/qYGLl
- Божьев В. П. Уголовно-процессуальные правоотношения: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 1994. 26 с.
- Марковичева Е. В. Процессуальная дееспособность несовершеннолетних в российском уголовном процессе // Современное право. 2009. №5. С. 90-93. EDN: KYSWAP
- Солонникова Н. В. Проблемы процессуальной дееспособности несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве (досудебное производство): автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. 31 c.
- Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств - участников СНГ // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ. 1996. №10. С. 96.
- Адаменко В. Д. Процессуальная дееспособность участника уголовного процесса // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1978. №4. С. 55-59. EDN: UCCMHV
- Песковая Ю. В. Уголовно-процессуальная правосубъектность лица, страдающего психическим расстройством: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2013.
- Полосков П. В. Правоспособность и дееспособность в советском уголовном процессе: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1985.
- Терегулова А. И. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в контексте рационализации стадии предварительного расследования: дисс. .... канд. юрид. наук. Уфа, 2019.
- Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. 303 с.