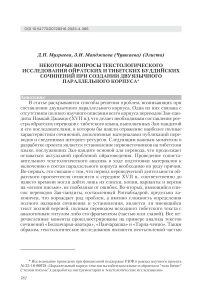Некоторые вопросы текстологического исследования ойратских и тибетских буддийских сочинений при создании двуязычного параллельного корпуса
Автор: Музраева Д.Н., Манджиева Чушкаева З.И.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются способы решения проблем, возникающих при составлении двуязычного параллельного корпуса. Одна из них связана с отсутствием полного научного описания всего корпуса переводов Зая-пандиты Намкай Джамцо (XVII в.), что делает необходимым составление реестра ойратских переводов с тибетского языка, выполненных Зая-пандитой и его последователями, в котором бы нашли отражение наиболее полные характеристики сочинений, дополненные материалами публикаций переводов и сведениями интернет-ресурсов. Следующим важным моментом в разработке проекта является установление первоисточников на тибетском языке, послуживших Зая-пандите основой для перевода, что продолжает оставаться актуальной проблемой ойратоведения. Проведение сопоставительного текстологического анализа в ходе подготовки материалов к включению в состав параллельного корпуса необходимо по ряду причин. Во-первых, это связано с тем, что период переводческой деятельности ойратского просветителя относится к середине XVII в., соответственно до нашего времени могли дойти лишь их списки, копии, варианты и версии на «ясном письме», не свободные от ошибок. Во-вторых, имеющийся список переводов Зая-пандиты, составленный Ратнабхадрой, предельно лаконичен, что порождает ряд проблем, а именно сложность определения полного названия сочинения и установления, является ли имеющийся текст полной версией, полным переводом исходного тибетского текста с аналогичным титулом либо его фрагментом (частью или главой). Все перечисленные моменты проиллюстрированы на примере анализа текстов сочинений «Бодхичарья-аватара», «Панчаракша» и «Тарпаченпо». Таким образом, текстологические исследования являются неотъемлемой частью проекта на первоначальном этапе отбора образцов текстов для параллельного корпуса, но будут продолжены на этапе апробации первоначальной версии программы выравнивания параллельных текстов.
Буддийская переводная литература, тибетские первоисточники, ойратские переводы, параллельный корпус, список ратнабхадры, сопоставительный текстологический анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/149144075
IDR: 149144075 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-395
Текст научной статьи Некоторые вопросы текстологического исследования ойратских и тибетских буддийских сочинений при создании двуязычного параллельного корпуса
Введение. Проблемы создания параллельного корпуса тибетских и ойратских текстов
Работа над продолжающимся проектом по созданию двуязычного параллельного корпуса выдвигает все новые проблемы для решения. Одна из них связана с необходимостью составления реестра ойратских переводов с тибетского языка, выполненных Зая-пандитой Намка Джамцо (XVII в.) и его последователями, в котором бы нашли отражение наиболее полные характеристики памятников, включая их титулы на санскрите, тибетском и ойратском языках, а также их переводы на русский язык, сведения о соответствующих монгольских переводах этих сочинений, возможные датировки, указывающие на время их составления, отметки о наличии копий и списков, указание мест хранения. Дополнение перечисленных данных сведениями об интернет-ресурсах, где можно почерпнуть информацию о тех или иных сочинениях, их переводах, исследованиях и публикациях, адресами сайтов, где они представлены в свободном доступе и проч., поможет в создании базы данных, которая будет способствовать дальнейшей разработке проекта, а также окажет пользу всем исследователям, занимающимся проблемами буддийской переводной литературы. Имеющиеся на сегодняшний день публикации образцов монгольской и ойратской переводной литературы являются одним из ценных источников в описываемом проекте [Damdinsürüng 1959; Лувсанбалдан 1975; Сазыкин 1990; Яхонтова 1999; Pañcarakša 2005; Сазыкин 2006; Музраева 2017 и др.].
В вопросе установления полного списка переводов Зая-пандиты в качестве исходного материала служит биография просветителя, хорошо известная под кратким названием «Лунный свет», составленная одним из его учеников Ратнабхадрой. В ней он перечислил названия сочинений, переведенных учителем и его ближайшими учениками. Несмотря на то, что список Ратнабхадры предельно лаконичен, он помог последующим поколениям ученых продвинуться в вопросе установления исходных текстов, дал возможность провести параллели с монгольскими переводами, а также реконструировать тибетские названия [Damdinsürüng 1959, 327–334]. Монгольский ойратовед Х. Лувсанбалдан, опираясь на список Ратнабха-дры, проделал большую работу по выявлению письменных источников, их списков, рукописных вариантов, сохранившихся в книгохранилищах
Монголии и России (ИЯЛ АН Монголии, ИВР РАН). Им также дана характеристика переводам Зая-пандиты и просвещенных лам из его ближайшего круга [Лувсанбалдан 1975]. В результате этой работы Лувсанбалдан представил перечни переводных ойратских сочинений в работе «Ясное письмо и его памятники», ставшей классическим ойратоведческим трудом [Лувсанбалдан 1975, 208–255].
В продолжение работы, проделанной предшествующими поколениями монголоведов и ойратоведов, опираясь на списки Ратнабхадры, Ц. Дамдинсурэна, Х. Лувсанбалдана, нами была составлена таблица, в которой отражены ойратские названия (краткие и более полные), краткие тибетские титулы исходных текстов, снабженные русским переводом названий сочинений. При этом учитывались данные каталогов и имеющихся публикаций [Музраева 2021, 249–267].
О роли текстологического анализа в определении тибетских первоисточников
Один из главных тезисов разрабатываемого нами проекта параллельного корпуса сводится к следующему: в корпус должны подгружаться исходные тибетские тексты и их точные (адекватные, полные, дословные) переводы на ойратском языке. Из этого следует, что должна быть проведена предварительная работа по сличению, сопоставлению имеющегося ойратского списка с тибетским первоисточником.
В настоящем проекте тибетские тексты являются исходными, а ойрат-ские – их переводами. Установление первоисточника на тибетском языке, послужившего Зая-пандите основой для перевода, продолжает оставаться актуальной проблемой. Связано это с тем, что период переводческой деятельности Зая-пандиты относится к середине XVII в., соответственно до нашего времени могли дойти лишь их списки, копии, варианты и версии на «ясном письме». Текстологический анализ в ходе подготовки материалов к включению в состав параллельного корпуса показал, что, поскольку многие тексты на «тодо бичиг» («ясном письме») подвергались многократному копированию (воспроизведению), сохранялись и передавались через века, в них могли быть допущены ошибки при переписывании по невнимательности, при издании печатных ксилографов, когда резчик тоже мог допустить ошибку.
Вот почему требуется проведение тщательного сопоставительного текстологического анализа с целью установления, является ли имеющийся ойратский текст переводом тибетского сочинения, его фрагмента (части или редакции с ее изменениями и даже искажениями, отходом от оригинала). Учитывая тот факт, что отдельные тибетские сочинения имеют разные версии, то установление исходного текста на тибетском языке также является важной задачей.
Следует признать, что в списке Ратнабхадры титулы сочинений даны в предельно краткой, усеченной форме. Это порождает ряд проблем, среди которых можно выделить:
– сложность при установлении полного названия сочинения;
– невозможность дать определенный ответ на вопрос, является ли имеющийся текст полной версией, полным переводом исходного тибетского текста с аналогичным титулом либо фрагментом (частью или главой) объемного текста.
Эти моменты можно проиллюстрировать на примере сочинения прославленного древнеиндийского проповедника и мыслителя Шантидевы (VIII в.), которое хорошо известно под кратким названием «Бодхичарья-а-ватара» («Путь бодхисаттвы») и которое в свое время перевел Зая-пандита. Главное предназначение труда Шантидевы – описание идеала бодхисаттвы (от санскр . bodhisattva), существа, посвятившего себя достижению Пробуждения, высшей цели духовных исканий во имя счастья и благоденствия всех живых существ [Шантидева 1999, 5–6]. То, что это произведение почитается представителями всех буддийских традиций, свидетельствует о его значимости как одного из классических произведений буддизма махаяны. Оно неоднократно переводилось на восточные и европейские языки. Русский перевод, основанный на санскритском оригинале, переводах на тибетский и европейские языки, был выполнен Ю.С. Жиронкиной [Шантидева 1999]. В предисловии автор-переводчик подчеркивает, что данное сочинение «<...> является сложным произведением. Глубокие мысли автора дополнены выдержками из великих сутр, описанием медитационных практик и цитатами из философских дебатов. Без сомнения, это произведение лучше всего изучать под руководством опытного наставника или с опорой на подробный комментарий» [Шантидева 1999, 9]. Этим объясняется то, что в Тибете данное сочинение пользовалось большой популярностью, к нему неоднократно составлялись комментарии, на его примере многие известные проповедники давали разъяснения учения. Эта традиция дошла и до наших дней. Среди современных учителей можно назвать Далай-ламу XIV, Тензин Гьяцо, который во время своих ежегодных учений цитирует главы из сочинения Шантидевы. Все сказанное свидетельствует о том, что обращение к этому труду Зая-пандиты было неслучайным. Однако в списке Ратнаб-хадры его перевод отмечен под кратким названием «Чарья-аватара» ( ойр . čārya ava-dar), из чего можно предположить, что это полный текст «Бодхи-чарья-аватары». Однако, согласно имеющимся сведениям в литературе по ойратоведению, перевод Зая-пандиты имеет титул “Bodhi sadv-yin yabudal-du oroxui-ēce: irȫl üzüülüqsen kemēküi inü arban-duγār bölöq” («Благословение из “Вступления на путь бодхисаттвы”; десятая глава») [Лувсанбалдан 1975, 237], из чего следует, что ойратский переводчик остановил свой выбор на десятой, заключительной главе под названием «Посвящение заслуг». В ней озвучены такие мысли Шантидевы, произнесенные бодхисаттвой, которые не могут оставить равнодушными ни одного буддиста:
Пусть силой моей заслуги Существа всех сторон света, Страдающие умом и телом, Обретут океан счастья и радости.
Покуда существует пространство, И покуда живущие пребывают в нем, Пусть и я буду жить,
Избавляя мир от страданий [Шантидева 1999, 152, 159].
Еще одним примером может послужить сочинение, представленное в перечне Ратнабхадры под кратким названием «Панчаракша» («Пять покровительниц» или «Пять защитниц»). Это объемное сочинение из разряда сутр, проповеданных самим Буддой, в котором излагается, каким образом можно преодолеть плохую карму и разного рода препятствия, выпадающие на долю живых существ. Оно имеет санскритские корни, переводилось на тибетский, а также монгольский и ойратский языки. В его составе можно выделить пять частей, каждая из которых представляет собой отдельную сутру, посвященную одной из пяти женских божеств-защитниц: Махапратисаре, Махасахасра-прамардани, Махамантре, Махашитавати и Махамаюри. При этом с каждой из них связан определенный набор защитительных магических формул. Согласно сведениям монгольского ученого Х. Лувсанбалдана, на основе сохранившихся ойратских источников уточнившего титул сочинения, оно имеет название “Pañza rakša-yin toqtōl” (или «Дхарани “Панчаракша”»). Таким образом, перевод Зая-пандиты характеризуется как сочинение из разряда дхарани, то есть текстов, включающих заклинания, имеющих ритуальное назначение, отличительной особенностью которых является, как правило, малый объем в сравнении с сутрами. Таким образом, данный пример показывает, что под кратким титулом, приводимым в списке Ратнабхадры, может подразумеваться сочинение иного объема, чем у известного произведения, при этом его жанровую принадлежность необходимо уточнять.
Примечательно, что среди переводов Зая-пандиты мы обнаруживаем сочинение, также имеющее отношение к «Панчаракше», под названием «Дхарани Махапратисары». Оно посвящено первой из перечисленных выше пяти великих защитниц, той, которая является покровительницей пяти чувств, богиней заклинаний, защищающей от грехов [Неаполитанский, Матвеев 2009, 537, 606–608]. Этот факт позволяет высказать точку зрения, что объектом для перевода Зая-пандиты служили не только единичные сочинения, но это мог быть и круг текстов, имеющих отношение к определенным культам божеств.
Великая сила тибетских глосс
По вопросу установления исходного тибетского произведения, переведенного на ойратский язык, первоначально следует узнать его полное название. С этим сопряжены некоторые сложности. Как правило, в начале буддийского текста, наряду с санскритским титулом сочинения, приводится его тибетское название, переданное особыми транскрипционными знаками – галиками. Иногда такие написания титулов сопровождаются глоссами – дополнительными поясняющими тибетскими слогами, которые вписываются между вертикальных строк ойратского текста, дублируя его. Они тоже служат для исследователя подсказкой в определении титула тибетского сочинения. Показателен пример текста ойратского перевода сочинения, известного под кратким названием «Тарпа-ченпо» («Великое освобождение»). Экземпляр рукописи хранится в музее г. Улангом Убсу-нурского аймака Монголии (ед. хр. 0123). В начале сочинения приводятся его санскритское, тибетское и ойратское названия. Тибетские глоссы вписаны между вертикальных строк текста на «тодо бичиг», слева от соответствующей строки. Тибетское название сочинения, переданное галиками, при составлении транслитерации показало, что в нем отсутствует небольшой фрагмент, который удалось восстановить с помощью тибетских глосс, содержащих недостающий фрагмент титула сочинения (в представленной далее транслитерации этот фрагмент заключен в фигурные скобки): ’phags pa thar pa chen po phyogs su rgyas pa gyod tshangs {kyis sdig sbyangs te sangs} rgyas su grub par rnam par bkod pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo («Святая сутра махаяны, именуемая “Распространяющая(ся) в направлении великого освобождения, раскаянием очищающая от грехов, полностью настраивающая на достижение [состояния] будды”»). Ойратский перевод сочинения передан как «Хutuqtu yeke toniluqsani züqtü delgeröülüqči gemšin γašuüdaxüi-bēr kilince arilγan burxan-du bütēküi maši zokōqči kemēkü yeke külgüni sudur» («Святая сутра махаяны, именуемая “Полностью настраивающая на достижение [состояния] будды, раскаянием и скорбью освобождая от грехов, распространяющая [идеи] в направлении великого освобождения (зд. досл. «того, кто освободил» или «кого освободили»)”»). Как видно из последнего приведенного титула, в котором мы также выделили соответствующий фрагмент, который мог быть опущен при переводе, в нем не наблюдается явных пропусков. Из сказанного следует, что пропуск был допущен на этапе переписывания ойратской рукописи, когда была опущена одна строка, которая как раз и соответствовала недостающему фрагменту тибетского титула сочинения.
Таким образом, упоминание тибетского названия сочинения в начале ойратских переводных сочинений (канонических сутр, дхарани и некоторых других жанров), призванное облегчить работу исследователя в определении тибетского первоисточника, может создать дополнительную проблему в решении этого вопроса. Вот для чего очень важно проведение сравнительно-сопоставительного текстологического анализа с привлечением сведений по истории переводной буддийской литературы у монгольских народов.
Заключение
Приведенные выше примеры, затрагивающие вопросы установления исходных тибетских текстов, их титулов, определения, являются ли те или иные ойратские переводы полными эквивалентами или переводами фрагментов (частей или глав) больших по объему тибетских сочинений, получе- ны в результате проведенного сопоставительного текстологического анализа. Дальнейшие изыскания в этом направлении позволят сделать некоторые новые выводы и обобщения историко-литературного плана относительно творческого наследия Зая-пандиты и переводческих традиций его школы. Работа по составлению реестра ойратских переводов с включением ряда дополнительных характеристик сочинений, начатая в рамках описываемого проекта, в определенной степени упорядочит ее, позволит выделить наиболее крупные, объемные сочинения, относящиеся к разным школам и традициям, установить круг текстов из числа почитаемых всеми школами тибетского буддизма, а также выделить подборки текстов, относящихся к культу почитания определенных божеств буддийского пантеона и проч.
Как показывают примеры на материале таких известных сочинений, как «Бодхичарья-аватара» Шантидевы, «Панчаракша», «Тарпа-ченпо» и др., текстологические исследования являются неотъемлемой частью проекта на первоначальном этапе, когда проводится отбор текстов на ойратском и тибетском языках, выполняется их транслитерация, дается предварительная оценка соответствия разбивки текстов на предложения в параллельных текстах. Они будут продолжены на следующем этапе апробации первоначальной версии программы выравнивания параллельных текстов.
Список литературы Некоторые вопросы текстологического исследования ойратских и тибетских буддийских сочинений при создании двуязычного параллельного корпуса
- Лувсанбалдан Х. Тод усэг, тууний дурсгалууд / ред. Ц. Дамдинсурэн. Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны академийн хэвлэх уйлдвэр, 1975. 356 с.
- Музраева Д.Н. «Море притч». Ойратский перевод Тугмюд-гавджи (О.М. Дорджиева): в 2 кн. / предисл., пер. с ойратского, коммент., глоссарий Д.Н. Музраевой. Элиста: КалмНЦ РАН, 2017.
- Музраева Д.Н. Буддийские памятники на «тодо бичиг» («ясном письме») и тибетском языке как источники по истории письменности ойратов и калмыков XVII-XX вв. / отв. ред. Ц.П. Ванникова. Элиста: КалмНЦ РАН, 2021. 508 с.
- Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Энциклопедия буддизма. СПб.: Институт метафизики, 2009. 928 с.
- Сазыкин А.Г. История Чойджид-дагини. Факсимиле рукописи / транслитер. текста, пер. с монг., исслед. и коммент. А.Г. Сазыкина; отв. ред. С.Ю. Неклюдов. М.: Наука, ГРВЛ, 1990. 253 с.
- Сазыкин А.Г. Монгольские переводы «Манджушринама-сангити» / сост. А.Г. Сазыкин. Kyoto: Kishumoto Printing Co., 2006. 265 p.
- Шантидева. Путь Бодхисаттвы (Бодхичарья-аватара). СПб.: Шанг-Шунг, 1999. 230 с.
- Яхонтова Н.С. Ойратская версия «Истории о Молонтойне». Факсимиле рукописи / изд. текста, введ., пер. с ойратского, транслитер., коммент. и приложения Н.С. Яхонтовой. СПб.: Петербургское востоковедение, 1999. 200 с.
- Damdinsrnmg Ce. Mongyol uran jokiyalun degeji jayun bilig orusibai. Ulayanbayatur: Bugude nayiramdaqu mongyol arad ulus-un sinjileku uqayan ba degedu bolbasural-un kuriyeleng-un keblel, 1959. 599 p. (Corpus Scriptorum Mongolorum. Vol. XIV. Fasc. 2).
- Pancaraksa. A Mongolian Translation from 1345 / introd. by S. Monhsaihan. [Ulaanbaatar]; Budapest: State Central Library of Mongolia; Research Group for Altaic Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2005. 171 p. (Treasures of Mongolian Culture and Tibeto-Mongolian Buddhism. Vol. 3).