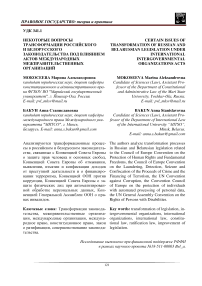Некоторые вопросы трансформации российского и белорусского законодательства под влиянием актов международных межправительственных организаций
Автор: Мокосеева Марина Александровна, Бакун Анна Станиславовна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Международное и европейское право
Статья в выпуске: 3 (57), 2019 года.
Бесплатный доступ
Анализируются трансформационные процессы в российском и белорусском законодательстве, связанные с Конвенцией Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, Конвенцией ООН против коррупции, Конвенцией Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, Конвенцией Генеральной Ассамблеи ООН о правах инвалидов.
Трансформация законодательства, межправительственные организации, международные организации, международное право, конституционное право, закон о ратификации, совершенствование законодательства
Короткий адрес: https://sciup.org/142234016
IDR: 142234016 | УДК: 341.1
Текст научной статьи Некоторые вопросы трансформации российского и белорусского законодательства под влиянием актов международных межправительственных организаций
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-511-00003 Bel_a.

Одной из самых выдающихся трансформаций в конституционном праве является имплементация российским государством Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. ФЗ от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ. Ратифицировав Конвенцию, разработанную Советом Европы, Россия приняла на себя обязательства по совершенствованию законодательства, касающегося прав и свобод человека и гражданина. Теперь граждане Российской Федерации получили право обращаться в Европейский Суд по правам человека и его решения стали источником права обязательными для исполнения. Постановлением от 14 марта 2002 г. № 6-П "По делу о проверке конституционности ст.ст. 90, 96, 122 и 216 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан С.С. Маленкина, Р.Н. Мартынова и С.В. Пустовалова" Конституционный Суд (далее – КС) признал ст.ст. 90 и 96 УПК РСФСР, устанавливающие возможность ареста, содержания под стражей и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, по решению следователя, дознавателя с санкций прокурора, неконституционными. Признавая соответствующие номы кодекса неконституционными, КС отметил, что такой порядок задержания и применения в качестве меры пресечения заключения под стражу несовместим с принятием на себя Российской Федерацией обязательств в рамках Конвенции от 4 ноября 1950 г.
-
1 июля 2002 г. был введен в действие новый УПК, который отнес к исключительной компетенции суда решение вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста (п.1 ч. 2 ст. 29 Кодекса).
В 2006 и 2007 гг. Конвенция продолжает оказывать трансформационное воздействие на нормы ФЗ о статусе военнослужащих и дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации. Акты были приведены в соответствие со ст. 22 КРФ, гарантирующей конституционное право на неприкосновенность личности.
Следующей серьезной трансформацией стало приведение в соответствие со ст. 8 Конвенции о защите прав и основных свобод УК, УИК и ФЗ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об ОРД". Статья 139 УК, которая устанавливала ответственность за нарушение конституционного права на неприкосновенность жилища, была приведена в соответствие со ст. 25 КРФ посредством раскрытия понятия "жилище" в примечании к статье.
Часть 2 ст. 91 УИК была дополнена запретом осуществления цензуры за перепиской осужденного со стороны администрации исправительного учреждения.
Статья 8 закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об ОРД" также была приведена в соответствие со ст. 23 КРФ, поскольку разрешила прослушивание телефонных и иных переговоров только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, либо в отношении которых имеются сведения об обстоятельствах совершения тяжких преступлений. Дальнейшее воздействие Совета Европы и Конвенции на российское законодательство вообще является беспрецедентным и носящим глобальный характер для всех отраслей российского права [1; 2; 3; 4; 5].
В свою очередь, Республика Беларусь (далее – РБ) не ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. Однако влияние данного международного акта усматривается в ряде решений и заключений Конституционного Суда РБ, например, в Заключении Конституционного Суда РБ от 11 марта 2004 г. № З-171/2004 "О соответствии Конституции РБ и международным договорам РБ положений Уголовного кодекса РБ, предусматривающих применение в качестве наказания смертной казни" [6], в котором орган конституционной юстиции обосновывает свои правовые позиции по вопросу отмены смертной казни, ссылаясь на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. Следовательно, можно утверждать, что данная конвенция также оказала влияние на внутреннее белорусское законодательство, однако в иной форме, чем в Российской Федерации.
В 2006 году вносятся изменения в российские законы от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О СМИ", от 3 апреля 1995 г. № 40 "О ФСБ", УК, УПК, Налоговый кодекс, КоАП, законы от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "Статусе военнослужащих", от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "Противодействии терроризму" и некоторые другие нормативные акты в связи с ратификацией Конвенции СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г.
Теперь нормы, регулирующие контрразведывательную деятельность и борьбу с терроризмом стали содержать порядок и перечень условий ограничения конституционных прав граждан. В УК вернулась конфискация имущества, как иная мера уголовно-правового характера, а ст. 205 была добавлена формулировкой, касающейся воздействия террористического акта на принятие решений органами власти или международными организациями.
Законы от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов" и от 6 октября 1999 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" также были изменены. Высшие органы исполнительной власти субъекта и органы местного самоуправления теперь должны противодействовать терроризму и экстремизму и участвовать в профилактике терроризма и экстремизма в своих границах.
-
8 марта 2006 года Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции и взяла на себя обязательства по принятию ФЗ по противодействию коррупции на государственной службе и в коммерческой сфере. 25 декабря 2008 года указанный закон № 273-ФЗ был принят.
-
25 декабря 2008 г. в связи с требованиями Конвенции ООН против коррупции были также внесены изменения в ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "Государственной гражданской службе".
Теперь в соответствии со ст. 20 ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ служащий, а также претендент на замещение должности обязан представлять нанимателю сведения о своих доходах и имуществе, а также доходах и имуществе членов своей семьи (разъясняется, что это супруга, супруги и несовершеннолетних детей). Перечень запретов и ограничений для государственных служащих, сотрудников внутренних дел, прокурорских работников, судебных приставов, военнослужащих, сотрудников таможни и иных государственных служащих был дополнен. Соответствующие изменения были внесены в законы о прокуратуре, статусе военнослужащих, судебных приставах, службе в таможенных органах и Положение о службе в органах внутренних дел.
Изменения были внесены в ст. 575 ГК РФ, а также в КоАП в ст.ст. 19.28 и 19.29.
В 2011 году трансформация законодательства в данной сфере продолжается. Законом от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ в ред. от 03.07.2018 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции" были внесены изменения в закон о государственной гражданской службе. На служащих была возложена обязанность, уведомлять о конфликте интересов не только работодателя, но и прокуратуру, а также правоохранительные органы. Аналогичные обязанности были возложены и на муниципальных служащих.
В свою очередь, Республика Беларусь, не являясь членом Совета Европы, не ратифицировала Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г. Однако в 2004 г. ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции. В связи с тем, что на протяжении многих лет в Республике Беларусь активно ведется борьба с коррупцией, происходит ряд трансформаций белорусского законодательства, в том числе в связи с учетом норм Конвенции ООН против коррупции. Так, в Республике Беларусь в 2015 году был принят Закон "О борьбе с коррупцией" [7]. Кроме того, в 2016 году изменения и дополнения были внесены в
следующие законы РБ: "Об органах внутренних дел РБ" [8], "Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля РБ" [9], "О статусе военнослужащих" [10], "Об органах государственной безопасности РБ" [11], "О Следственном комитете РБ" [12], "О Государственном комитете судебных экспертиз РБ" [13]. Следовательно, можно констатировать, что в сфере борьбы с коррупцией произошла наиболее заметная и существенная трансформация белорусского законодательства под влиянием актов международных организаций, в особенности, таких как ООН.
В 2013 году в связи с принятием ФЗ от 7 мая 2013 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ "О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных" и ФЗ "О персональных данных" вносятся изменения в 14 нормативных правовых акта.
Трансформационные явления затронули следующие законы: от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ "О прокуратуре", от 7 мая 1998 г. "Негосударственных пенсионных фондах", от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ "Государственной дактилоскопической регистрации", от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "Государственной социальной помощи", от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ "Государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей", от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "Связи", от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "Муниципальной службе" и некоторые другие. Теперь защита персональных данных приобрела качественно новый уровень.
Несмотря на то, что Республика Беларусь не является членом Совета Европы и не ратифицировала Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, в данной области также происходит интенсификация трансформационных процессов. Так, в Республике Беларусь на данный момент базовым нормативным правовым актом, который регулирует отношения между физическими лицами и субъектами хозяйствования, собирающими персональные данные, является Закон "Об информации, информатизации и защите информации" [14]. Кроме того, была принята Концепция информационной безопасности РБ, утвержденная постановлением Совета Безопасности РБ от 1 марта 2019 г. [15]. В свою очередь, постановлением Совета Министров РБ от 10 апреля 2019 г. № 228 [16] определены особенности внесения отдельных персональных данных и их актуализации в регистре населения. Вскоре в Республике Беларусь будет принят новый Закон "О персональных данных", в котором белорусский законодатель учел все последние тенденции развития норм актов органов международных организаций в этой области. Правотворческая работа по принятию нового закона о персональных данных практически завершена, он прошел первое чтение в белорусском парламенте.
В 2014 году вносятся изменения в 25 нормативных правовых акта в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеи ООН, федеральным законом от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ.
Изменения были внесены в законы от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения", от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства о культуре", от 21 июля 1993 г. № 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ "Музейном фонде и музеях в Российской Федерации", от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ "Государственной поддержке кинематографии", УИК, Кодекс внутреннего водного транспорта, КоАП и многие другие.
Благодаря Конвенции в ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "Социальной защите инвалидов" появляются две новых статьи, а именно, ст. 3.1, не допускающая дискриминации по признаку инвалидности и ст. 5.1, вводящая порядок и условия функционирования федерального реестра инвалидов.
ФЗ от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" также дополняется новой ст. 21.1, регулирующей пе- ревозку и особенности обслуживания пассажиров из числа инвалидов. На владельца транспортной инфраструктуры была возложена обязанность обеспечивать условия доступности для инвалидов перевозок автомобильным транспортом наравне с другими пассажирами.
В свою очередь, Республика Беларусь в 2016 г. ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. В настоящее время в белорусский парламент поступил проект Закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Предполагается, что в данном законопроекте будет учтены положения Конвенции ООН о правах инвалидов, а также включено лучшее из ныне действующих законов "О социальной защите инвалидов в РБ" [17] и "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов" [18]. Являясь социальным государством [19], Республика Беларусь постоянно совершенствует законодательство в данной области с целью его максимальной реализации лицами, причисляемыми к категории инвалидов.
Таким образом, федеральные законы о ратификации стали основанием для трансформации российского законодательства актами международных межправительственных организаций [20; 21; 22]. На данный момент подобная трансформация затронула более 100 положений российских нормативных правовых актов, устранив коллизии и пробелы в праве [23; 24]. Российский законодатель достаточно активно вносит изменения и дополнения не только в действующие федеральные законы, но и принимает новые федеральные законы.
В связи с особой важностью подобных трансформационных процессов для российского государства предлагаем законодательно закрепить в п. 1 ст. 15 Закона о международных договорах, положением о том, что перечень видов международных договоров, подлежащих обязательной ратификации, должен быть открытым. Также считаем целесообразным в законе о международных договорах предусмотреть подробную процедуру исполнения международных актов, ратифицированных Россией для эффективного обеспечения результативности трансформационных процессов.
Полагаем, что в Республике Беларусь на правотворчество акты органов международных организаций оказывают меньшее влияние, чем на правотворчество в Российской Федерации. Это обусловлено, во-первых, тем, что Республика Беларусь не всегда является членом тех международных организаций, членом которых является Россия, а, во-вторых, в Республике Беларусь меньше принимается нормативных правовых актов в связи иным территориальным объемом, формой государственного устройства. Однако, несмотря на вышеперечисленные особенности, в Республике Беларусь наблюдается трансформация национального законодательства посредством влияния на него актов органов международных организаций.
Думается, что целесообразным будет расширить перечень международных организаций, членом которых может стать Республика Беларусь, например, стать членом Совета Европы, что позволило бы максимально учитывать тенденции норм международного права при совершенствовании национального законодательства.
Список литературы Некоторые вопросы трансформации российского и белорусского законодательства под влиянием актов международных межправительственных организаций
- Mokoseeva M.A. EU Constitutional StandardizatioN and Transformation Processes / 2nd IBIMA ConfereNce in Seville. Spain. 15-16 November. 2018 [Электронный ресурс]. URL: https:/docs.wixstatic.com/ugd/5333e6_af9f20385e544a53b0bb5be7d607413e.pdf (дата обращения: 24.07.2019).
- EDN: ZFKMLT
- Kanska K., The normative Force of Decisions of International Organizations. [Электронный ресурс]. URL: http:/www.esil-sedi.eu/sites/default/files/Kanska_0.PDF (дата обращения: 24.07.2019).
- Кабанова О.В. Международные правовые акты - источники конституционного права России / Власть закона. 2017. № 4. С. 129-138.
- EDN: XSALZP
- Осминин Б.И. Приоритетное применение международных договоров в национальной правовой системе: условия и последствия / Журнал российского права. 2017. № 12. С. 43-48.
- EDN: ZVRCTF
- Стародубцева И.А. Обеспечение согласованности международных договоров и законодательства Российской Федерации: конституционно-правовые проблемы реализации / Российская юстиция. 2013. № 10. С. 58-63.
- EDN: RJZITB