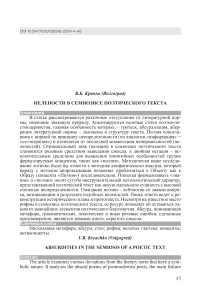Нелепости в семиозисе поэтического текста
Автор: Крячко В.Б.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются различные отступления от литературной нормы, имеющие знаковую природу. Анализируются нелепые стихи поэтов-постмодернистов, главная особенность которых, - гротеск, абсурдизация, аберрация литературной нормы - заложены в структуру текста. Поэзия сопоставима с нормой по принципу неопределенности (по аналогии «информация» = «негэнтропия») и отличается от последней множеством ненормальностей (нелепостей). Отрицательный знак (негация) в семиозисе поэтического текста становится рядовым средством выведения смысла, а двойная негация - исключительным средством для выявления понятийных особенностей трудно формулируемых концептов, таких как «поэзия». Методически наше исследование логично было бы отнести к методике апофатического анализа, который наряду с методом аппроксимации позволяет приблизиться к Объекту как к Образу (концепта «Поэзия») последовательно. Попытка формализовать «знание» о «поэзии» носит сугубо инструментальный методологический характер, представляющий поэтический текст как некую идеальную сущность с высокой степенью неопределенности. Ожидание поэзии - лейтмотив со знаком вопроса, возникающим в результате подобных нелепостей. Поиск ответа ведет к реконструкции исторического плана и прототекста. Несмотря на известное место рифмы в семиозисе поэтического текста, ее ресурс позволяет ей оставаться одним из важнейших элементов поэтического благозвучия. Абсурд, понижающая метафора, грамматические, лексические и иные речевые ошибки, сделанные преднамеренно, являются знаками иного, скрытого смысла.
Нисходящая метафора, абсурд, стих, рифма, нелепые глаголы, концепты, антиконцепты
Короткий адрес: https://sciup.org/149147207
IDR: 149147207 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-45
Текст научной статьи Нелепости в семиозисе поэтического текста
descending metaphor; absurdity; verse; rhyme; absurd verbs; concepts; anti-concepts.
Образ твой, мучительный и зыбкий, Я не мог в тумане осязать. “Господи!” – сказал я по ошибке, Сам того не думая сказать (О. Мандельштам).
«Ошибка» – не случайное здесь слово, поскольку именно оно наилучшим образом говорит о «Божьем имени», вылетающим из груди, «как большая птица» [Мандельштам 1990, 78]. Кроме того, это ключевое слово в нашем исследовании по следующим причинам. 1) Прежде всего потому, что «Образ», о котором идет речь в поэтическом тексте, не дефинируется, а угадывается. 2) Ошибка, как носитель отрицательной семы, является полноценным знаком, необходимым и достаточным для того, чтобы этот Образ зафиксировать апо-фатически. 3) Ошибка или отступление от литературной нормы является формальным признаком нелепости поэтического текста как явления и как формы.
Поэзия как «явление формы» [Седакова 2010, 103] обязывает обратиться к структуре стиха, к опыту, накопленному в структурной лингвистике. В лотма-новской модели семиотического континуума поэтический текст определяется как система знаковая, иерархическая, вторичная . Вместе с тем считаем необходимым обратить внимание на следующие его элементы.
-
1. Знаковость как принадлежность семиосфере, культурному пространству.
-
2. Иерархичность предполагает наличие внутренней организации, выступает синонимом структурности. Так, например, поэтический текст определяется как «особым образом организованная семиотическая структура» [Лотман 1972, 14]. Сложность этой структуры обусловлена сложностью языка, который в свою очередь рассматривается с разных сторон, например, со стороны лингвистики (это могут быть языковые уровни с последующим делением на фоне-
-
3. Поэзия, как в целом языки литературы и искусства, признаются вторичными моделирующими системами, имеющими собственные объекты исследования [Лотман 1972, 16]. Между тем главной задачей поэзии является поиск и выражение смысла, в то время как литературный язык (не путать с языком литературы) озадачен его передачей. Отсюда их целевое расхождение: первый монологичен и неоправданно избыточен (экстремален), второй диалогичен и усреднен (целесообразен). Первый стремится к точности выражения, второй – к легкости восприятия и желанию договориться [Шапир 1999, 513].
-
4. Признается ошибочным общее мнение о том, что художественная проза предшествовала более сложно организованной поэзии [Лотман 1972, 23]. Сегодня эта мысль стала императивом, вошедшим в учебники, где, например, ритм прозы рассматривается, как «явление объективное» [Фоменко 2006, 29], а единицей прозаического ритма определяется синтагма [Фоменко 2006, 30–38]. Тем не менее у поэтического текста есть дополнительные ограничения, снижающие свободу его употребления (наличие метрико-ритмической основы стиха, повторов, рифмы, музыкальности, звукоподражания).
-
5. Высокая информативность (один из парадоксов) поэтических текстов достигается за счет их высокой семантической плотности. Предполагается, что все элементы стиха (строфы) являются потенциально значимыми [Лотман 1972, 36] и их правильнее было бы считать символами, а каждое слово концептом, генерирующим культурные смыслы. Сегодня мы можем говорить о появлении нового уровня в изучении поэтического текста – композиционного с точки зрения формы и концептуального с точки зрения содержания [Шапир 1999, 518].
-
6. Символический характер поэтического текста определяет другой его парадокс: способность поэтического текста (слова, стиха, строфы) быть больше себя самого [Лотман 1972, 85–86]. Это связано с понятием смысла стиха, который оказывается не равным сумме элементов, его составляющих, что противоречит принципам работы любой автоматизированной системы.
-
7. Масштаб поэтического сюжета отличается «большей степенью обобщенности, чем сюжет прозы» [Лотман 1972, 103]. Принято считать, что поэзию интересуют вечные вопросы, определяющие масштаб значимости.
мы, морфемы, слова) и культуры (искусство, кинематограф, театр, литература).
Проблема идентификации поэтического текста данным перечнем признаков не исчерпывается. Поэтический текст и его идентификация среди других текстов культуры остается весьма значимой сегодня.
Нелепые стихи. Абсурдизация нормы
Поэзия, как явление языка, всегда связана с новизной, под которой следует понимать не рождение нового естественного языка, а рождение нового поэтического текста, особым образом организованного. Особенность этой организации предполагает некоторую меру условности, которая сохраняется при всех попытках измерить его.
Однако здесь возникает множество несовпадений или нелепостей от преднамеренной абсурдизации плана содержания до порой демонстративных языковых (грамматических, лексических, пунктуационных и иных) ляпов и «нисходящей метафоры» – выражение, введенное в научный обиход И. Бродским, которое следует понимать, как игру на понижение [Довлатов 1993, 321]. Возникает некоторое внутреннее противоречие, заставляющее усомниться в поэтичности того или иного текста. В значительной мере это относится к поэзии постмодернизма. Например, стихотворение Всеволода Некрасова «Календарь»:
И сентябрь
На брь
И октябрь
На брь
И ноябрь
Брь
И декабрь
Брь
А январь –
На арь
Июль – на август Август на сентябрь [Некрасов 2008, 136].
В нем есть структура: стих, размер, рифма, графическое построение, лексические значения. Есть даже более дробное деление – на морфемы. Однако с точки зрения семантики ожидание поэзии оказывается обманутым, смысл абсурден. Метафоры, порождающей образ, тоже нет. Правда, обращает на себя внимание то, что в тексте нет знаков препинания, а самая его концовка выходит из подчинения рифме. То, что так старательно подчеркивалось и ударялось, вдруг в самом конце оказалось попранным. Текст выведен из равновесия и фонологически, и семантически. Странно, нелогично и еще раз абсурдно. Дважды повторенная негация дает позитивное значение. Абсурд абсурда, как известно – начало смысла, «граница формализованного мышления» и «пограничная стража разума» [Померанц 2017, 420]. В данном случае смысл имеет затекстовый характер, как и метафора, которая зовет нас к экстенсии культурного корпуса. Суть ее как раз в том, что она имеет указательный характер – оказывается, не все, что формально структурируется, есть поэзия. Поэзия – это что-то еще.
А вот «абсурдистское» стихотворение Дмитрия Пригова, которое можно классифицировать как гротеск.
В синем воздухе вечернем
Солнце ласкатало тени Сын с улыбкою дочерней Примостился на колени Эта ласковость в природе Словно предопределенье Но зато замест в народе Эка сила разделенья Страшная [Пригов 2008, 137].
Юмор, вызывающий улыбку, построен на ангажированном абсурде, который используется, как прием, нацеленный на извлечение иного смысла. Цель коррелирует со смыслом, суть которого в том, чтобы показать нелепость изо- бражаемой картины: солнце в синем воздухе вечернем, которое ласкатывает тени; сын с дочерней улыбкой; нелепое слово ласкатало; отсутствие знаков препинания.
Прием абсурдизации также заложен в структуру стихотворения. Рифма, 8-сложный размер стиха, благозвучие – все строго соблюдается до самого конца, как бы в насмешку над читателем, который обнаружит подвох не раньше, чем произойдет обрыв благозвучия и саморазрушение стиха на последнем слове «страшная». Это не рифма, а насмешка над ней. Подвох заключается в том, что самым серьезным образом здесь зарифмованы совершенно нелепые оксюморонные выражения. И сила разделенья в народе после пресловутого зато выглядит тоже нелепо. С одинаковым успехом «разделенье» можно заменить «единеньем».
Именно абсурд и пошлость в прямом смысле делают поэзию нелепой, например, насмешливо-садистской.
Мальчик, мальчик-грамотей
Пионер-отличник
Расскажи-ка мне скорей
Что со мною станет
Он ответил: Ты пойдешь
Дяденька мой милый
Подскользнешься попадешь
Вот под тот автобус! –
Спасибо, мальчик [Пригов 2008, 137].
Здесь по-прежнему отсутствуют знаки препинания, а литературная норма в слове «по д скользнуться» оказывается демонстративно попранной в угоду разговорному стилю.
Таким образом абсурдизация предстает как прием намеренной десе-мантизации текста с использованием самоиронии и игры со смыслами. Как обязательное условие этой игры – вольное обращение с нормой, отсутствие знаков препинания, намеренные ошибки. Но осознанная ошибка, перестает быть таковой, сдвигая ориентиры и смещая метафору. Сама ошибка становится метафорой и знаком знака – предметом выбора, имеющим ценностный характер.
Ожидание поэзии
Мы не знаем, как выглядел первый поэтический текст, но можем предположить: 1) структурно он отличался от наших нынешних ожиданий; 2) несомненно, для нас это был текст на иностранном языке.
Однако именно в плане ожидания поэзии мы можем предположить, что он был узнаваем по ряду причин.
-
1. Это был текст эмоциональный, а значит, развернутый, поскольку «от избытка сердца говорят уста» (Лк. 6: 45) [Библия 1989, 1586].
-
2. Это было обращение, которое надо представлять, как нечто невероятное – «Нечеловеческое!» [Седакова 2010, 103] – как ответ и как « опыт человека невероятного, homo impossibilis , встречающего в себе <…> “другого неведомого себя”» [Седакова 2010, 112]. Понадобилось, как минимум, несколько знаков, развернутых в стих по принципу повторяемости.
-
3. Аз есмь – предполагает личное обращение по Имени, в котором первочеловек подразумевал и себя.
« ЭХЙЕ АШЕР ЭХЙЕ , что можно перевести как “Я есть Тот, Кто есть”» [Мень 2002, 525] – Я есмь Сущий или Аз есмь .
Планирование языковой личности невозможно за пределами «Ты» – «я» отношений, которые представляют диалогическую модель, функционирующую по асимметрической проекции вопрос – ожидание – ответ. Вопрос и ответ разделены некоторым промежутком времени, которое мы называем ожиданием поэзии .
«С точки зрения автора “Божественной комедии”, человек “начал речь свою c ответа” (per viam responsionis… fuisse locutum, то есть “заговорил, идя по пути ответа”), обращенного к Создателю, и таким образом с молитвы» [Чистяков 2001, 11].
Для первого человека быть поэтом так же естественно, как для языка поэзии – самодостаточным. Ожидание поэзии – это история языка, лучшей его части, которая знает не только стихотворное творчество, но и прозаическое, например, «Мертвые души» Н.В. Гоголя, «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева, стихотворения в прозе Ш. Бодлера... Главное, что объединяет все эти тексты в один лиро-эпический жанр – отношение к Событию, интерпретация Его с точки зрения Вечности.
Принцип неопределенности
Воплощенной моделью этого принципа является слово, которое в поэтическом тексте «никогда не имеет точного денотата, а между словом и вещью образуется некоторый “зазор”, устранимый только за счет постижения смысла целостной картины» [Фатеева 2010, 136]. Отсюда возникает семантическая неопределенность как «неотъемлемое свойство поэзии» [Шапир 2015, 100]. Принцип неопределенности в отношении слова соответствующим образом работает и в отношении поэтического текста.
Дух, порождающий поэтическую метафору, сближает границы культур и народов так же, как например, стихотворения в прозе с японской поэтической традицией хокку, суть которой – в невысказанности.
Домик в уединенье.
Луна… Хризантемы… В придачу к ним.
Клочок небольшого поля (Басё).
Подобная метафора чиста и незамысловата. Не ее ли порой тщетно ищет поэт всю жизнь, а когда наступает пора ответа, то вверх поднимается рука с детским рисунком. Однажды Анна Ахматова сравнила эти стихи с мандельштамовским «Как детский рисунок просты». «Да, эти стихи чем-то похожи на детские рисунки» [Чуковская 1980, 66–67].
Так же, видимо, как и слова моей пятилетней дочери, еще не научившейся писать. Однако все нижеследующие слова сопровождались рисунками.
Бабочки летают –
Мы их любим…
Или
Звезды светят
Около звезд – солнце…
Это как дыхание, в котором невозможно выделить ни строфу, ни размер, ни рифму. Только стих, в котором уже есть восходящая метафора.
Садик-садочек и цветы, (8)
А в цветах пыльца – (5)
Солнце светит… (4)
Или
-
Фонари горят – ночь. (6)
Звезды на небе горят… (7)
А вот стихотворение поэта Александра Зорина «После грозы»:
Воробышек пьет из щербинки асфальтовой (13) За капелькой капельку, (7)
К небу клювик задрав… (6) [Зорин 2018, 79].
Все очарование стиха – в его первозданной целостности, деликатной недосказанности, нераздельности с Первообразом, относящее нас к состоянию Адама, когда он чувствовал, что он и Отец – одно. Структурно стихотворение не вписывается в 17-сложную схему классического хокку (5-7-5) и состоит из одной-единственной строфы, одного стиха, одного предложения и одной восходящей метафоры.
Иное дело – проблема «авторской глухоты», суть которой – преднамеренное или непреднамеренное отступление от литературной нормы – была подробно рассмотрена М.И. Шапиром в его знаменитой работе «Эстетика небрежности в поэзии Пастернака» и в резонансных откликах на нее. В случае с Борисом Пастернаком его «демонстративная “антипоэтичность”» [Шапир 2015, 119–143], ставшая предметом обширной критики, имела концептуальный характер, чему был посвящен исчерпывающий литературоведческий анализ. Из концепции «самоуподобленья простому человеку» [Шапир 2015, 129] отчетливо просматривается и «авторская глухота» поэта, и «эстетика небрежности», и обилие семантических сдвигов и иных нелепостей, например, идеализация простого народа, обыкновенных людей [Седакова 2010, 377]. Сегодня это актуально как напоминание о том, что «обожествление человеческой природы есть род идолопоклонства» [Зорин 2005, 362]. Очевидно, что в основе всех нелепостей поэта лежит его символ веры, что придает им непреднамеренный и закономерный характер.
Таинство рифмы
Сегодня основными структурными признаками поэзии принято считать: – стих, – ритм,
– метр (стихотворный размер),
– рифму [Википедия].
Дилетантский взгляд на поэзию выделяет из этого списка только стих и рифму. Однако не всякий стих ладит с поэзией, как, впрочем, не всякая рифма со стихом. Как выясняется, одной лишь структурой тема поэзии не исчерпы- вается. Тем более что и сама структура поэтического текста меняется со временем.
До рифмы основным отличием «поэзии» от «не-поэзии» была напевность, распев стихотворной речи (В. Шаламов, Ю.М. Лотман), что предполагает наличие ритмической основы. Кроме того, с точки зрения стиховой формы необходима цикличность, повторяемость некоторых элементов стиха по «принципу возвращения» [Лотман 1972, 39]. Отсюда берет начало явление синонимии, параллелизма, художественного повтора.
Рифма как «звуковой повтор» - явление более позднее, связанное с выражением ритмической основы стиха, - раньше была признаком прозы, а не поэзии.
С.С. Аверинцев связывает стиховую рифму с основным ее критерием – регулярностью. Рамка строфы, наложенная на гомеотелевты, и перед нами – рифма. Основным ее, то есть рамочным условием, по С.С. Аверинцеву, является парность. Для этого, например, достаточно сравнить молитву преподобного Ефрема Сирина с пушкинским «Отцы пустынники и жены непорочны».
Рождение рифмы было засвидетельствовано С.С. Аверинцевым в акафисте – особом жанре молитвенного «неседального» чтения и песнопения («Акафист Богородице») [Аверинцев 2004].
Сегодня по-прежнему актуальна метрическая организация рифмы. Вот, например, стихотворение московского поэта Александра Зорина «Гроза утром».
Вдруг абажуром ажурным поле накрыло и лес.
Дождь с нарастающим шумом шел, как тяжелый экспресс [Зорин 1991, 5].
-
- четкий, как ход поезда, ритм, такой же соответствующий ему, то есть повторяющийся размер (8-7-8-7);
-
- перекрестная рифма ажурн ым - шум ом , л ес - экспр есс с чередующимся созвучием по мужскому и женскому типу, образующими пару. Интонационно это построение интересно также своим чередованием: конец первой и третьей строки произносится с восхождением тона, который соотносится с женской рифмой; в то время, как мужская рифма означает конец предложения, четной строки, падение тона – точка. Женская рифма встречает нас подъемом на вдохе, мужская, как отчеркивание, ставит точку на выдохе.
Фонологическая организация рифмы актуальна звуковыми повторами:
- консонансами:
Вот уж [ ш ] по ш иферным кр ыш ам ш парит. Как стрелочник в ыш ел, я с фонарем на крыльцо.
Разом отгрохотало всюду и прочь пронеслось.
Только береза шептала
Что-то... и сумрак гл отала,
Вся г о л убая от с л ез [Зорин 1991, 5].
-
- ассонансами и корневой рифмой: « А ба жур ом Ажур ным» (выделено мной - В.К. ).
Однако самое ценное достояние поэзии открывает нам семантическая организация рифмы. Она – в непредсказуемости (стихотворение «Оранжевая палатка»).
От взгляда моего зажмурившись бессильна, ты пряталась в него, как в дольку апельсина [Зорин 1991, 17].
Краткое прилагательное «бессильна» рифмуется с «долькой апельсина» , с которым сравнивается взгляд. Странное и невозможное сравнение, если не знать названия стихотворения. Тем неожиданнее и откровеннее образ, который нам дарит рифма. Чарующее звучание, четкий ритм, размер стиха (6-7-6-7) – все гармонично сложено. И в основе этой гармонии – рифма, которая не разрушает смысла, а созидает его. Созидая новый образ, живой и трогательный, она сама отступает на задний план, делаясь незаметной. А стихи журчат и играют созвучиями.
За гранью теневой, на стороне окольной – пушисто-золотой, раскованно-спокойный [Зорин 1991, 17].
Однако не всегда зоринской рифме сопутствует созвучие. Часто оно уходит на второй план, а на первый выступает другое.
Из мыловарен детсадовских, умоплавилен школьных и прочих – в семью возвращают сирот [Зорин 1991, 16] .
Три составных новообразования подряд «мыловарен», «детсадовских», «умоплавилен» скорее противопоказывают стихотворчеству, цепляют слух и внимание. «Мыловарня детсадовская», «умоплавильня школьная» – метафоры, рожденные советским новоязом: главком, партком, обком, комсомол, детсад – все эти слова и подобные им вошли в наше сознание с детства и остаются незамеченными, то есть нормальными. Ненормальными и в прямом смысле нелепыми они видятся только в поэтическом тексте. То, что отличает нелепо сть стихотворчества А. Зорина от рассмотренных выше, это антиконцепты , о которые мы спотыкаемся неожиданно для себя. В этом заслуга его поэзии – она открывает нам нас самих. В этом же проявляется ее миссия, если угодно, весьма актуальная сегодня.
Рифма зде сь не столь актуальна, сколь незаметна. Однако ее связь с метафорикой – определенная и эта связь – семантическая: чем ярче метафора, тем значительнее роль рифмы в поэтическом тексте.
Внебрачное наследие ГУЛАГа, дитя единокровное – общага.
Раскрыта пасть на трассе Усть-Илима
Как ни крути, а не проехать мимо [Зорин 1991, 7].
С точки зрения культуры в ее общепринятом понимании «ГУЛАГ», «общага», «пасть» еще более нелепы в поэтическом тексте, чем лексемы, рассмотренные выше. Последние два являются просторечиями, а ГУЛАГ – один из наиболее значительных антиконцептов современной русской культуры, прецедентный феномен, сконцентрировавший в себе деструктивную массу отрицательных коннотаций. Сегодня понятийная рамка концепта «поэзия» оказывается слишком узкой для новых значений, появившихся в современной русской культуре. Определенно можно сказать, что поэзия нынче по-прежнему остается тайной, напоминающей рождение языка от чувства нераздельности с Отцом. В. Набоков сказал об этом стихами:
И я счастлив. Я счастлив, что совесть моя, сонных мыслей и умыслов сводня, не затронула самого тайного. Я удивительно счастлив сегодня.
Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та, а точнее сказать я не вправе [Набоков].
Пожалуй, это одно из лучших определений поэзии, в котором сохраняется интонация неопределенности. Возможно, она потому и сохраняется, что дана поэтическим языком.
Резюмируем. Невозможно раз и навсегда зафиксировать особенности этого языка, установить границы, поскольку он – в постоянном движении. Собственно, поэзия – это и есть Язык или Логос, открывающийся апофатически. Отсюда масса нелепостей – слов, знаков, которые становятся нелепыми глаголами от соприкосновения с Вечностью, выражаясь языком И. Бродского, там, где небо метафор встречается с землей гипербол . В поэтических текстах они выполняют роль маркеров, давая нам возможность приблизиться и понять поэзию через то, чем она не является.
Список литературы Нелепости в семиозисе поэтического текста
- Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб.: Азбука-классика, 2004. 480 с.
- Басё. URL: https://lib.rmvoz.ru/bigzal/japan/hokku#01 (дата обращения: 5.07.2020).
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Брюссель: Изд-во «Жизнь с Богом», 1989. 2535 с.
- Довлатов С.Д. Собрание прозы: в 3 т. Т. 3. СПБ.: Лимбус-Пресс, 1993. 374 с.
- Зорин А.И. Гнездо. М.: ВНИЦПМ, 1991. 50 с.
- Зорин А.И. Выход из лабиринта. М.: Общедоступный Православный университет, основанный протоиереем Александром Менем, 2005. 427 с.
- Зорин А.И. Март отзывчивый, март безутешный. М.: Новый Хронограф, 2018. 112 с.
- Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Ленинград: Просвещение, 1972. 271 с.
- Мандельштам О.Э. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Худ. литература, 1990. 637 с.
- Мень А.В. Библиологический словарь: в 3 т. Т. 1. М.: Фонд им. А. Меня, 2002. 607 с.
- Набоков В.В. Слава. URL: http://lib.ru/NABOKOW/p7glory.txt (дата обращения: 8.05.2020).
- Некрасов В.Н. Календарь // Русская поэзия второй половины ХХ века. М.: Дрофа, 2008. 220 с.
- Померанц Г.С. Выход из транса. М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. 592 с.
- Пригов Д.А. Русская поэзия второй половины ХХ века. М.: Дрофа, 2008. 220 с.
- Седакова О.А. Четыре тома. Том III. Poetica. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. 584 с.
- Фатеева Н.А. Синтез целого: на пути к новой поэтике. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 352 с.
- Фоменко И.В. Практическая поэтика. М.: Академия, 2006. 191 с.
- Чистяков Г.П. Господу помолимся. Размышления о церковной поэзии и молитве. М.: Рудомино, 2001. 175 с.
- Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. Париж: YMCA-Press, 1980. 625 с.
- Шапир М.И. Язык поэтический // Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины / под ред. Чернец Л.В. М.: Высшая школа, Academia, 1999. C. 512-528.
- Шапир М.И. Universum versus: Язык-стих-смысл в русской поэзии XVIII-XX веков. М.: Языки славянской культуры, 2015. 586 с.
- Поэзия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Поэзия (дата обращения: 21.02.2019).