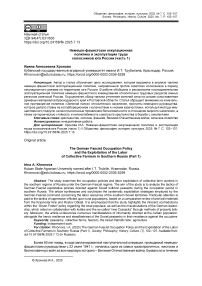Немецко-фашистская оккупационная политика и эксплуатация труда колхозников юга России (часть 1)
Автор: Хронова И.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
Автор в статье обозначает цель исследования, которая выражена в анализе тактики немецкофашистской эксплуатационной политики, направленной против советских колхозников в период оккупационного режима на территории юга России. В работе обобщена и рассмотрена последовательная эксплуатационная политика немецкофашистского командования относительно трудовых ресурсов южных регионов советской России. Осуществлен обзор тактики угнетения жителей села на основе сопоставления архивных материалов Краснодарского края и Ростовской области. Статья обращает внимание на изначальное противоречие политики «Зеленой папки» относительно населения, просчеты немецкого руководства, которое делало ставку на коллаборационизм с кулачеством и «новым казачеством», используя методы имущественного подкупа; на многочисленные проявления бесчеловечности в отношении мирного населения, а также на героическую стойкость и непоколебимость советского крестьянства в борьбе с оккупантами.
Крестьянство, колхозы, фашизм, Великая Отечественная война, сельское хозяйство
Короткий адрес: https://sciup.org/149148791
IDR: 149148791 | УДК: 94(47):631/635 | DOI: 10.24158/fik.2025.7.13
Текст научной статьи Немецко-фашистская оккупационная политика и эксплуатация труда колхозников юга России (часть 1)
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Russia, ,
первых месяцев на оккупированных территориях оказались, по некоторым подсчетам, около 70 миллионов советских граждан. В большинстве своем это были мирные люди. Оказавшись в зоне оккупации, они были вынуждены жить фактически в новом государстве. На основании приказа А. Гитлера о гражданском управлении во вновь оккупированных восточных областях от 17 июля 1941 г.1 создается Имперское министерство по делам оккупированных восточных территорий под руководством А. Розенберга, который при этом имел свою точку зрения относительно управления оккупированными регионами. Одной из стратегических идей была ставка на антисоветские националистические движения как на Украине, так и на Кавказе. В политическом дневнике Розенберга четко прослеживается концепция «войны на уничтожение». Будучи активным участником совещаний, посвященных освоению восточных территорий задолго до начала операции «Барбаросса», он высказывался о практике «масштабной эксплуатации населения, выкачивания природных, а затем и людских (остарбайтеры) ресурсов»2. Особую роль немецкое руководство отводило югу России не только как нефтяному ресурсу, но и как промежуточному звену в цепи нефтедобывающих территорий (Иран, Ирак).
Битва за Кавказ началась с захвата Ростова-на-Дону 21 ноября 1941 г. Несмотря на некоторые успехи Красной армии, инициатива перешла к противнику весной 1942 г. Уже летом – 25 июля 1942 г. ‒ начался оборонительный этап битвы за Кавказ – Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция. Под контролем оккупантов оказались Краснодарский край и Ростовская область. Враг захватил около половины посевных площадей страны и значительную часть поголовья скота.
Советское крестьянство с мужеством выдержало этот удар. Находясь под гнетом немцев, подвергаясь чудовищной эксплуатации, в тисках порабощения, издевательств, разлагающей идеологии и физического уничтожения, оно вынуждено было трудиться, выживать, а также отчаянно сопротивляться ненавистным захватчикам.
Научной новизной и значимостью работы является обращение к трудовой жизни жителей села оккупированных территорий, анализ характерных тенденций эксплуатации, проводимой фашистами, сквозь призму обзора вновь открывшихся, рассекреченных архивных материалов и периодической печати рассматриваемого периода, которые существенно дополнили имеющиеся знания о повседневной жизни населения.
Целью данного исследования является анализ тактики немецко-фашистской эксплуатационной политики, направленной против советских колхозников в период оккупационного режима на территориях Краснодарского края и Ростовской области.
Предлагаемая статья состоит из двух частей. В первой части ставится задача проследить идеологическую политику, распространяемую и применяемую относительно жителей коллективных хозяйств на рассматриваемой территории; оценить стратегические планы эксплуатации ресурсов немецко-фашистскими захватчиками, а также социально-экономические взаимодействия с некоторыми слоями крестьянского общества. Задача решалась путем обращения к ряду документальных источников Центра документации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК), исследовательским работам, периодическим изданиям рассматриваемого периода.
Во второй части статьи ставится задача осуществить анализ ряда повседневных практик эксплуатации труда жителей сельской местности рассматриваемых территорий немецко-фашистскими оккупантами. Указанная задача будет реализована путем обзора и систематизации архивных документов Государственного архива Краснодарского края, ЦДНИКК, Государственного архива Ростовской области и его филиала в г. Таганроге, Центра документации новейшей истории Ростовской области, Центра хранения архивных документов в г. Шахты Ростовской области, газетных публикаций, научных исследований ряда авторов.
Практическая значимость данной работы заключается в том, что автор анализирует влияние фашистской эксплуатационной политики на социально-трудовую сторону жизни колхозников юга России; акцентирует внимание на феномене бесчеловечного массового геноцида и угнетения крестьян со стороны фашистов, обращаясь к вопросам преступления против человечества.
Актуальность работы вытекает из современных задач и требований исторической науки, связанной с увековечиванием не только памяти о Великой Отечественной войне, но и ее уроках; формированием и поддержанием уважения к памяти жертв и важности мира.
Рамки исследования ограничены территориями Краснодарского края и Ростовской области в период немецкой оккупации.
Для оценки понимания стратегии, которую немецко-фашистские захватчики планировали реализовать на территории России, следует обратиться к военному дневнику Ф. Гальдера1. Исследование З.В. Бочкаревой также освещает немецко-фашистскую политику массового террора, которая проявилась в попытке приспособить свою эксплуатационную политику к захваченным регионам2, с последующим формированием «социальной базы оккупационного режима» (Цит. по: Агеева, Захарченко, 2008: 131), направленного на индоктринацию и разграбление местных жителей. Е.М. Малышева (2003) в своем исследовании анализирует работу германского командования на временно оккупированных территориях Северного Кавказа, а также политические настроения местных народов. Монография А.А. Аникеева (1990) посвящена анализу фашистской аграрной политики и положения крестьянских масс на оккупированных территориях. Многочисленные факты злодеяний, дискриминации и угнетения советского крестьянства изучались в трудах В.П. Данилова3, Ю.В. Арутюняна (1970).
Диссертационные исследования Д.Е. Комарова, С.Г. Степаненко, А.С. Линец, В.А. Бондарева, Е.Ф. Кринко также рассматривают сложные взаимоотношения местных сельских жителей и немецких оккупантов4.
Кроме того, обширный пласт опубликованных статистических и документальных материалов позволяет непредвзято, через призму отчетов, донесений, справок оценивать события рассматриваемого периода5.
Стоит отметить, что вопросы жизни, а в особенности труда жителей села в период немецко-фашистской оккупации на территории юга России, на сегодняшний день рассмотрены недостаточно подробно. В первую очередь это связано с тем, что в советской историографии присутствовала «фигура умолчания» относительно жизни советских граждан в оккупации и коллаборационизма. Также этот аспект связан с постепенным снятием грифа секретности с архивных документов, которые позволяют постепенно «обнажать» ужасы оккупации, знакомить исследователей с подробностями жестокого господствования немецко-фашистской власти на территории России, раскрывать биографии пособников фашистов, а также жертв войны.
В статье были применены следующие методы: сопоставления, синтеза и обобщения, эмпирический. Метод сопоставления позволил обозначить общие черты политики Вермахта, ее эксплуатационные начала. Синтез и обобщение дали возможность оценить механизмы использования трудовых ресурсов мирных граждан, а также формы и методы управления оккупируемыми территориями. Эмпирический метод позволил выявить, на основе представленного архивного материала, факты, свидетельствующие о проявлении политики оккупационного режима в отношении колхозников юга России, а также применяемой относительно них тактике извлечения экономической выгоды и ограбления.
Изучая оккупационную политику фашистской Германии, важно отметить, что она вытекала из экономической составляющей нападения на Советский Союз. Так, в указе Гитлера от 29 июля 1941 г. Герингу предоставлялось право «максимального использования обнаруженных запасов и экономических мощностей»6 для развития сил. Неудивительно, ведь именно Герингу Гитлер доверил руководство захватом советской экономики.
Разработанная программа захвата, получившая зашифрованное название «Зеленая папка Геринга», еще до нападения на СССР предписывала не считаться с жизненными интересами советского народа. «Папка» регламентировала в первую очередь использовать продовольственные и нефтяные хозяйства в захваченных областях, восстанавливать порядок следовало только там, где будут добываться «резерва сельскохозяйственных продуктов и нефти»1. Функционально эти районы играли роль аграрного и сырьевого придатка, где сельское хозяйство должно было развиваться на примитивной основе. Крестьянин не имел права распоряжаться сельскохозяйственной продукцией. Гитлеровцы безжалостно отбирали все, что в конечном итоге вело к «полуголодному животному существованию, беспрекословному повиновению»2. А. Дж. Кей, Д. Резерфорд и Д. Стахел в своей работе отмечают, что проводимая политика с целью захвата значительного количества зерна с оккупированных советских территорий «далась ценой десятков миллионов советских жизней» (Nazi Policy on the Eastern Front…, 2012: 101).
Подобная идеология прослеживалась не только в «Зеленой папке», идентичные высказывания и заметки присутствуют в дневнике А. Розенберга, участника и координатора подготовки «войны на уничтожение».
В своей речи, произнесенной 20 июня 1941 г., он заявил: «Мы не видим нашего долга в том, чтобы из [южных] районов с переизбытком [сельскохозяйственной продукции] кормить также и русский народ… Русский народ ожидают тяжелые годы»3.
Были ли у этой «культурной» арии сомнения, чувство жалости или сопереживания? Обратимся к папке окружного сельскохозяйственного фюрера с грифом «Совершенно секретно» от 1 июня 1941 г., которая содержит Инструкцию «12 заповедей поведения немцев на Востоке и их обращение с русскими». Седьмая заповедь гласит: «...не спрашивайте: какую пользу извлечет из этого крестьянство, а спрашивайте только: насколько полезно это для Германии...»4. Девятая: «...мы не хотим обращать русских на путь национал-социализма, мы хотим только сделать их орудием в наших руках. Вы должны покорить молодежь, указывая ей ее задачи, энергично взяться за нее и беспощадно наказывать, если она саботирует...»5 и т. д. На совещании, проходившем 7 ноября 1941 г., Геринг сформулировал следующие указания относительно применения русской рабочей силы: «Следует больше использовать русских в сельском хозяйстве; если нет машин, надо с помощью человеческих рук выполнять те требования, которые империя предъявляет сельскому хозяйству в восточном пространстве»6. Он подчеркнул, что нужно максимально эксплуатировать русский народ в угоду и на благо империи.
Таким образом, германское руководство во главе с идеологами расистских идей не только пренебрежительно и презрительно высказывалось относительно русских, но и ставило задачу по ликвидации русского народа, не испытывая ни малейшего сострадания.
К сожалению, приходится признать, что «реальностью всех войн является переход части населения оккупированного государства на сторону противника»7. Так было и на Дону, и на Кубани, где находились лица, работавшие на стороне фашистов. Фашистское командование, делая ставку на ненависть казачества к советской власти и ущемленные вековые права, предполагало, что именно казаки станут для них верным подспорьем в реализации оккупационной политики. Оно поощряло привилегии казачества, поддержало создание организации «Казачьего национального общества» и направило в Ростовскую область белогвардейских эмигрантов. Множество газет, издаваемых на оккупационных территориях, «массово публиковали материалы о возрождении старых казачьих традиций и сословных привилегий, обещания о создании особого казачьего государства» (Доронина и др., 2017: 75) и т. д.
Фашисты стремились вытравить из людей идеи «гуманизма, коллективизма, поощряя спекуляцию и предпринимательство»8. Обещая «новому казачеству» по «гектару земли на душу и… по две лошади на хозяйство»9, они рассчитывали, что создадут крепкую казачью армию, но их план не сработал. Согласно отчету краевого Управления НКВД в Москве, за период шестимесячного пребывания гитлеровцев на Кубани ими было сформировано «несколько неполных казачьих отрядов, численность которых не превышала 800 человек...»10.
Среди коллаборационистов были не только казаки, но и бывшие царские полицейские, которые буквально сразу же переметнулись на сторону врага, собрав вокруг себя подобный контин-гент1. Были и предатели из числа комсомольцев, которые «под страхом за сохранение своей собственной шкуры продались немецко-фашистским захватчикам»2, девушки, сожительствующие или вышедшие замуж за немцев, венгров и т. д. Местные пособники, добровольно согласившиеся работать в жандармерии, активно помогали оккупантам. Например, житель станицы Верхне-Бакан-ской М.И. Горобец, по собственному желанию оставшись на территории, служил помощником начальника жандармерии, участвовал в облавах, боях с партизанами, разгроме партизанских баз. Также принимал участие в расстреле пленных партизан, где лично отрезал уши трем убитым пар-тизанам3. Таким образом, местные приспешники также были включены в жестокую эксплуатацию мирных советских граждан.
Провозглашенный лозунг фашистской Германии «Освобождение от большевизма» в меморандуме министерства по делам оккупированных территорий был также предлогом для эксплуатации народа. Доказательством этого стала декларация о праве крестьян на частную собственность на землю (или «земельная реформа»), логично вытекающая из «нового аграрного порядка», который был установлен на оккупированных территориях с 15 февраля 1942 г. Но даже в указанной «реформе» можно констатировать напыщенность и высокомерие фашизма. Под ликом «благожелательности и снисхождения» фашистов была формально сохранена колхозная система, что было только мероприятием «временным, связанным с военными условиями» (Арутюнян, 1970: 218).
Приведенные данные лишь частично иллюстрируют фашистскую тактику эксплуатации жителей юга России. Следует констатировать, что принципы и методы пропаганды, разработанные в нацистской Германии, не изжиты и до сих пор имеют свое трагическое продолжение. Как показывают действия в зоне специальной военной операции, элементы нацизма присутствуют в современных коммуникационных технологиях и ряде политических систем, проникая в ценностные ориентиры общества и воздействуя на них.
Осуществляемый масштабный эксперимент «нового аграрного порядка» на оккупированных территориях юга советской России привел к массовым разрушениям экономики и геноциду местных жителей. Последующие успешно разворачивающиеся операции Красной армии вынудили немцев безотлагательно вносить коррективы в политику взаимодействия с местным населением, которое в итоге переросло в открытое мародерство, жесточайшие преступления и садизм. Свидетельством этому является директива А. Гитлера «Движение Кримхильды», направленная на уничтожение инфраструктуры, ресурсов, советских мирных граждан при отступлении с территории Краснодарского края.
Обращаясь на сегодняшний день к вопросам оккупационной политики и тактике ее применения, мы не только затрагиваем трагический контекст прошедших событий, но и стремимся акцентировать внимание на предупреждении подобных сценариев в дальнейшем. Данные воспоминания должны стать живым уроком для последующих поколений, и нам, как потомкам, завещано нести память этого тяжелого исторического наследия. Поэтому важно чтить не только фронтовые подвиги, но и подвиги, совершенные в тылу простыми тружениками сел, деревень и станиц, не забывать о жертвах оккупации, которые так же, как и солдаты, приближали Победу, как могли.