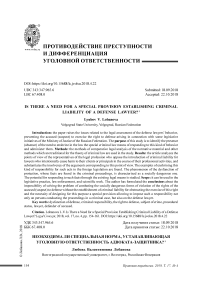Необходима ли специальная норма, устанавливающая уголовную ответственность адвоката-защитника?
Автор: Лобанова Любовь Валентиновна
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Противодействие преступности и дифференциация уголовной ответственности
Статья в выпуске: 4 (41), 2018 года.
Бесплатный доступ
Введение: в работе поднимаются вопросы, касающиеся юридической оценки поведения адвокатовзащитников, препятствующих обвиняемому (подозреваемому) осуществлять право на защиту, возникшие в связи с некоторыми законотворческими инициативами Министерства юстиции РФ. Целью настоящего исследования служит выявление наличия / отсутствия необходимости закрепления в законе и применения специальных уголовно-правовых средств реагирования на такого рода поведение. Методы: в ходе изучения использованы приемы сравнительно-правового анализа нормативного материала и иные методы, традиционные для теории уголовного права. Результаты: проанализирована позиция представителей адвокатской профессии, высказывающихся против введения уголовной ответственности для адвокатов, которые умышленно причиняют вред своим клиентам или доверителям в процессе осуществления профессиональной деятельности, и обоснована несостоятельность доводов, соответствующих этой позиции. Произведен поиск примеров закрепления такого рода ответственности за подобные деяния в зарубежном законодательстве. Явление дисфункции защиты, факты которого обнаруживаются в уголовном судопроизводстве, охарактеризовано как общественно опасное. Изучены потенциальные возможности реагирования на подобные факты с помощью существующих правовых средств. Область применения: данное исследование может быть использовано в законодательной практике, правоприменительной деятельности, научной работе. Делаетсявывод о невозможности решения проблемы противодействия общественно опасным формам нарушения права обвиняемого (подозреваемого) на защиту без установления уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению этого права, а также о необходимости конструирования в этих целях специальной нормы, позволяющей возлагать такую ответственность не только на лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, но и на адвоката-защитника.
Дисфункция защиты, уголовная ответственность, право на защиту, субъект преступления, процессуальный статус, адвокат, защитник обвиняемого
Короткий адрес: https://sciup.org/149130220
IDR: 149130220 | УДК: 343:347.965.6 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2018.4.22
Текст научной статьи Необходима ли специальная норма, устанавливающая уголовную ответственность адвоката-защитника?
DOI:
Министерством юстиции РФ инициирована разработка законопроектов, направленных на обеспечение эффективности работы представителей адвокатского сообщества. Одной из ожидаемых новелл должно стать появление уголовной ответственности за воспрепятствование законной деятельности адвоката. Вместе с тем отдельными департаментами Минюста предложено преследовать в уголовном порядке и самих адвокатов, если они действуют во вред своим доверителям [1; 2].
Отрицательная оценка адвокатским сообществом предложения о введении уголовной ответственности адвокатов и доводы, лежащие в основании такой оценки
В ходе обсуждения подобных правотворческих инициатив в основном дается отрицательная оценка рекомендации уравновесить уголовную ответственность за вмешательство в законную деятельность адвокатов соответствующим наказанием для последних. И пред- ставители руководства ФПА, и рядовые адвокаты единодушно отрицают конструктивность данной идеи. При этом обращается внимание на то, что гражданско-правовые отношения, которые связывают адвоката и его доверителя, не могут влечь ответственности по иной отрасли права [2]. Подчеркивается также возможность привлечения представителей адвокатской профессии к дисциплинарной ответственности, а также отсутствие у них властных полномочий, которыми наделены, например, нотариусы или аудиторы [2]. Звучит в качестве аргумента и указание на существование уголовно-правовых норм, в соответствии с которыми «адвокат и так является субъектом уголовной ответственности» [2].
Неприятие идеи признания адвоката специальным субъектом преступления против правосудия имело место и ранее. «Адвокат, – рассуждал, например, в одной из своих работ Р.Г. Мельниченко, очерчивая пределы уголовной ответственности представителей адвокатской профессии за воспрепятствование осуществлению правосудия, – не должен выходить за рамки полномочий, которые он получает, распространяя на себя элементы правового статуса своего клиента: что не позволено клиенту, не позволено и адвокату» [6, c. 50].
Дополнительный довод против введения в российское уголовное законодательство ответственности адвоката за причинение вреда своим клиентам могут, думается, составить и результаты сравнительно-правового анализа положений УК РФ и зарубежных нормативных актов уголовно-правового содержания.
Последние содержат немало примеров регламентации норм, направленных на противодействие вмешательству в деятельность адвоката по оказанию юридической помощи, но при этом, как правило, не закрепляют каких-либо специальных оснований возложения ответственности на самих адвокатов за причинение существенного вреда охраняемым уголовным законом правам и интересам личности, общества и государства, когда такой вред наступил в связи с невыполнением названным субъектом своей правозащитной функции либо отклонением от нее.
Так, § 132-а Общегражданского кодекса Норвегии предписывает привлекать к уголовной ответственности как за воспрепятствование правосудию лиц, виновных в принуждении адвоката, его помощника или юридического представителя к совершению или несовершению действия, работы или услуги в связи с уголовным или гражданским делом при условии, если указанное деяние осуществлено насильственным путем, с помощью угроз, вредительства или иного неправомерного поведения [10, с. 138–140].
Правовым основанием для преследования в уголовном порядке за вмешательство в деятельность адвокатов по УК Франции может выступать ст. 434-8. Указанная статья, устанавливая уголовную ответственность за угрозу и запугивание участников процесса (в том числе адвоката), совершенные с целью оказать влияние на их поведение при исполнении ими своих обязанностей, содержание угроз не конкретизирует, в отличие от ст. 296 УК РФ [7, с. 180–181].
Законодатель Кыргызской Республики закрепляет в своем уголовном кодексе не только составы воспрепятствования осуществлению правосудия (ст. 317) и производству предварительного расследования (ст. 318), но и конструкцию воспрепятствования профессиональной деятельности защитника (ст. 318-1) [12].
Однако ни один из названных иностранных уголовных законов не закрепляет какой-либо нормы, посредством которой достигалось бы равновесие между уголовно-правовой охраной деятельности адвоката и обеспечением с помощью уголовно-правовых средств защиты клиента (доверителя) от ненадлежащего поведения самого лица, призванного оказывать квалифицированную юридическую помощь.
Подобных норм нет даже в законодательстве тех государств, уголовные кодексы которых предоставляют правоприменителю более широкие возможности для уголовного преследования лиц, виновных в воспрепятствовании осуществлению правозащитной функции.
Например, ст. 435 УК Республики Казахстан, вступившего в силу с 1 января 2015 г., предназначена для охраны законной деятельности не только адвокатов, но и иных лиц, осуществляющих защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в уголовном процессе, а равно оказание физическим и юридическим лицам правовой помощи [13, с. 206–207]. Однако будучи уголовно-правовой гарантией от воспрепятствования деятельности лиц, оказывающих юридическую помощь, соответствующая норма не может выступать правовой основой для привлечения к уголовной ответственности самого правозащитника за незаконное поведение в отношении его клиента (доверителя).
Вопреки нашим ожиданиям, такую роль не способна выполнить и ст. 374 УК Украины, устанавливающая уголовное наказание за нарушение права на защиту. Оберегая подозреваемого, обвиняемого, подсудимого от грубого нарушения данного права, законодатель названной страны ограничил круг субъектов этого преступления лицами, осуществляющими производство по делу [14, с. 192–193].
Своеобразным исключением из изученных нами уголовных законов зарубежных государств (изучено около 40 нормативных актов уголовно-правового содержания) оказался лишь УК Испании, где адвокат прямо указан в качестве специального субъекта целого ряда преступлений против правосудия. Особый интерес в свете настоящего исследования представляет ст. 467 названного законодательного акта. «Адвокат или прокурор, – гласит ч. 1 данной статьи, – который примет на себя защиту или представительство другого лица без согласия лица, которое он защищает или представляет по этому же делу с противоположными интересами, наказывается штрафом на сумму от шести до двенадцати заработных плат и лишением права заниматься определенной профессией на срок от двух до четырех лет» [11, с. 146]. Штраф от двенадцати до двадцати месячных заработных плат со специальным признанием виновного несоответствующим должности, государственному посту, специальности или профессии на срок от одного года до четырех лет установлен в ч. 2 указанной статьи статьи для прокурора или адвоката, который явно причинил посредством действия либо бездействия вред интересам, которые ему доверены [11, с. 146].
О необходимости комплексного решения проблемы уголовно-правового обеспечения реализации права на защиту и о целесообразности признания адвоката-защитника одним из субъектов преступного нарушения такого права
Определяя нашу позицию по вопросу, обозначенному в названии научной статьи, заметим для начала следующее. Нет ничего удивительного в том, что перспектива такого развития специального статуса адвоката вовсе не обрадовала представителей адвокатского корпуса. Ведь никого, занимающегося каким-либо делом, не вдохновляют дополнительные запреты либо обременения, сопровождающие соответствующее занятие.
Сам по себе не может убедить в отсутствии необходимости включения в УК РФ дополнительных статей, предписывающих возлагать на адвокатов, причиняющих существенный вред своим клиентам (доверителям), и тот факт, что такого рода нормы редки в зарубежном законодательстве. Отнюдь не случайно многие дореволюционные правоведы, признавая значимость для уголовно-правовой науки сравнительно-правовых исследований, предупреждали о недопустимости чрезмерного увлечения данным методом познания юридических явлений. «Не для удивления или восхваления со стороны чужеземцев созда- ются законы, а для удовлетворения потребностей страны», – писал, например, Н.С. Таганцев [9, с. 18].
Вместе с тем отрицание необходимости уголовной ответственности адвокатов за причинение существенного вреда лицам, обратившимся к нему за квалифицированной юридической помощью, в результате невыполнения либо ненадлежащего осуществления в отношении них правозащитной функции при одновременном утверждении наличия потребности во введении в УК РФ ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката противоречит здравому смыслу. Например, процессуальная деятельность защитника обвиняемого или подозреваемого важна не сама по себе, а как важнейшая гарантия реализации гражданином своего права на получение квалифицированной юридической помощи и на защиту в уголовном судопроизводстве, неизменно включающего в себя юридическую возможность пользоваться помощью защитника в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством (ст. 48 Конституции РФ, п. 8 ч. 4 ст. 48 и ст. 49 УПК РФ). Сообразно с этим воспрепятствование законной деятельности защитника должно рассматриваться как проявление нарушения права на защиту. При этом с позиции существенности такого нарушения следует оценивать и вредоносность различных вариантов воспрепятствования защитнику в реализации им своих процессуальных полномочий. Именно в указанном ракурсе освещалась нами ранее проблема укрепления правовых гарантий для лиц, занимающихся адвокатской практикой. Указанную проблему предлагалось разрешить посредством конструирования состава преступления с относительно абстрактным содержанием «Воспрепятствование реализации права на защиту». За рамками круга субъектов данного состава было бы нелогично оставлять самого защитника [3, с. 177–183; 4, с. 105–110]. Ведь от последнего, во-первых, во многом зависит эффективность функционирования всей стороны защиты как таковой. Во-вторых, в силу доверительных отношений со своим подзащитным адвокат обладает довольно широким спектром возможностей для причинения вреда клиенту (доверителю) [4, с. 105–110], в том числе и путем создания препятствий для реализации обвиняемым (подозреваемым) своих процессуальных прав лично либо с помощью иного лица, включая другого защитника.
Проведенные авторами некоторых публикаций исследования также указывают на то, что проблема реализации гражданином своего конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи заключается не только в отсутствии надежных гарантий для лиц, призвавших такую помощь оказывать, но и в нежелании отдельных представителей адвокатской профессии выполнять свои обязанности добросовестно, активно отстаивая права и законные интересы своих клиентов. Подобные научные работы не оставляют сомнений в том, что такие опасные для уголовного судопроизводства явления, как участие в процессе «карманного адвоката», попустительство адвоката применению незаконных методов воздействия на обвиняемого (подозреваемого), осуществленных следователем либо дознавателем, навязывание защитника, вовлечение последнего в негласное сотрудничество со следователем и т. п. [15, c. 23–28; 5, с. 109–110; и др.] характеризуют незаконную деятельность не только лиц, осуществляющих производство по делу, но и беспринципных защитников, соглашающихся во всем этом участвовать.
Все отмеченное, на наш взгляд, уже позволяет критически относиться к позиции отрицания необходимости установления уголовной ответственности адвоката за причинение вреда своим клиентам. Добавим сюда еще несколько замечаний, касающихся аргументации, сопровождающей высказывания, подобную точку зрения выражающие.
Так, мало подходит для обоснования оспариваемого нами мнения суждение о невозможности порождения гражданско-правовыми отношениями ответственности иной отраслевой принадлежности. Никто из инициаторов соответствующих законопроектов и не утверждает обратного. Возникновение уголовной ответственности предполагается не в связи с отношениями адвоката с его доверителем (клиентом), а в результате нарушения таких отношений, причем нарушения, способного причинить существенный вред личности, обществу и государству. Применительно к ска- занному нелишне, думается, напомнить об охранительной функции уголовного закона, который «обычно берет под защиту общественные отношения, регулируемые другими отраслями права – государственным, административным, гражданским, семейным, трудовым и т. д., объявляя преступным наиболее опасные виды и формы нарушения этих отношений» [8, с. 28].
Исключительная важность реализации права на защиту в демократическом уголовном судопроизводстве, существенность негативного влияния ущемления данного права на ход и результаты процессуальной деятельности, многовариантность вредных последствий подобного нарушения, затратность, а в ряде случаев и невозможность восстановления данного права, принципиальная роль защитника в организации защиты обвиняемого (подозреваемого), в предупреждении несоблюдения прав и законных интересов подзащитного заставляют предположить также, что дисциплинарная ответственность вовсе не является адекватной реакцией на все проявления дисфункции защиты. Если последняя значительна и связана с осознанным поведением носителя обязанности оказывать квалифицированную юридическую помощь населению, она требует применения государством к виновному более решительных мер, и, судя по всему, именно мер уголовной репрессии.
Неубедительным аргументом представляется нам и ссылка на отсутствие у адвоката властно-распорядительных полномочий. При определении вида и объема ответственности за нарушение права на защиту решающее значение должно придаваться не столько должностному, сколько процессуальному статусу субъекта, виновного в этом нарушении, а точнее наличию / отсутствию и содержанию тех прав и обязанностей, которые связаны с реализацией либо обеспечением прав обвиняемого (подозреваемого). В указанном отношении проведение параллели между правовым положением защитника и лица, осуществляющего производство по делу, вполне уместно. Несмотря на различие в процессуальных функциях, у данных субъектов есть нечто общее. От надлежащего исполнения ими своих обязанностей и использования правомочий зависит в существенной степени реализация права обвиняемого (подозреваемого) на защиту (ст. 16 УПК РФ). Кроме того, тот факт, что адвокат-защитник не обладает управленческими полномочиями, скорее свидетельствует о наличии необходимости закрепления в УК РФ самостоятельных норм, устанавливающих в частности уголовную ответственность адвоката за воспрепятствование реализации права на защиту, чем об отсутствии таковой. Ведь это однозначно указывает на недопустимость привлечения адвоката к ответственности за служебные преступления (ст. 201, 285, 286, 293 УК РФ), а равно вменения ему в вину квалифицирующего признака «совершение преступления с использованием служебного положения» применительно к таким, например, составам преступления, как мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ), а также воспрепятствование осуществлению правосудия или производству предварительного расследования (ч. 3 ст. 294 УК РФ).
Следует вместе с тем заметить, что и другие части ст. 159 и 294 УК РФ либо вовсе не применимы, либо применимы далеко не ко всем ситуациям противоправного поведения защитника, который вместо того, чтобы помогать подозреваемому (обвиняемому) в реализации его права на защиту, сознательно создает препятствия для такой реализации и тем самым причиняет существенный вред подзащитному. Так, для квалификации содеянного адвокатом, не исполняющим свои обязательства перед клиентом и умышленно действующим вопреки его законным интересам, как мошенничество необходимо доказать отсутствие на момент получения вознаграждения намерений такие обязательства выполнить. Умысел же на осуществление лжезащи-ты формируется вовсе не всегда к данному времени. Но от этого таковая не утрачивает своей вредоносности, поскольку степень ущемления соответствующего права мало зависит от подобного факта. Что же касается ст. 294 УК РФ, то она скорее рассчитана на случаи осуществления защиты незаконными средствами, нежели на проявления дисфункции последней. Это замечание можно отнести и к другим статьям УК России, закрепляющим составы преступлений против правосудия, привлечение к ответственности за которые законодатель не связывает с какими-либо свойствами субъекта посягательства, позволяя тем самым рассматривать в качестве уголовно-ответственных лиц любых субъектов, в том числе и адвоката (например, ст. 297, 298, 309 и др.). Да и те редкие нормы, в соответствии с которыми защитник прямо признан законом специальным субъектом преступления (ч. 2 ст. 303) либо может выступать таковым при определенных обстоятельствах (ст. 310), сконструированы в иных целях, нежели для того, чтобы служить гарантией соблюдения права обвиняемого (подозреваемого) на защиту. Вряд ли с учетом сказанного можно согласиться с утверждением, будто в УК РФ достаточно положений для адекватного реагирования государства на факты существенного отклонения защитника от своей процессуальной функции, то есть на случаи воспрепятствования обвиняемому (подозреваемому) права на защиту лицом, в чьи профессиональные обязанности входит содействие реализации данного права. Напротив, приходится констатировать, что дисфункция защиты является единственной в уголовном судопроизводстве, для противодействия проявлениям которой законодатель не создал специальных уголовно-правовых средств. Абсолютно неясно, почему уголовно-наказуемы непра-восудие (ст. 305 УК РФ), уклонение от осуществления обязанности осуществлять уголовное преследование (ст. 300 УК РФ) и даже неисполнение свидетельских обязанностей (ст. 307. 308 УК РФ), а оборотни-защитники практически ответственности не подлежат.
Выводы
В заключении подведем некоторые итоги нашего исследования.
-
1. Одобрять инициативу Министерства юстиции РФ о введении уголовной ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности защитника и одновременно отрицать необходимость установления такого рода ответственности для самого адвоката, причинившего существенный вред лицам, обратившимся к нему за юридической помощью, в результате умышленного невыполнения или ненадлежащего осуществления в отношении них правозащитной функции, –нелогично. Профессиональная деятельность адвоката важна
-
2. Беспрецедентная важность осуществления права на защиту в демократическом уголовном судопроизводстве, существенность негативного влияния ущемления данного права на ход и результаты процессуальной деятельности, многовариантность вредных последствий подобного нарушения, затратность, а в ряде случаев и невозможность восстановления данного права, принципиальная роль защитника обвиняемого (подозреваемого) в предупреждении несоблюдения прав и законных интересов подзащитного заставляют предположить также, что дисциплинарная ответственность адвоката вовсе не является адекватной реакцией на все проявления дисфункции защиты. Если последняя значительна и связана с осознанным поведением носителя обязанности оказывать квалифицированную юридическую помощь населению, она требует применения государством к виновному мер уголовной репрессии.
-
3. Существующие уголовно-правовые нормы не пригодны для эффективного предупреждения общественно опасных форм дисфункции защиты. Такого рода дисфункция является своего рода единственным отклонением от осуществления основных процессуальных функций, для противодействия проявлениям которой законодатель не создал специальных уголовноправовых средств. Мы считаем, что оснований для такого исключения не было.
-
4. В целях комплексного решения проблемы обеспечения реализации права на защиту с помощью уголовно-правовых средств целесообразно сконструировать состав с более широким содержанием, чем воспрепятствование деятельности защитника, например, состав воспрепятствования реализации права на защиту, в качестве субъекта которого мог бы рассматриваться и сам защитник. Это позволило бы учесть и исключительную роль данного участника уголовного процесса в организации защиты обвиняемого (подозреваемого), и широкий спектр возможностей адвоката по причинению вреда своему подзащитному в силу доверительных отношений с ним.
не сама по себе, а как гарантия осуществления права на получение квалифицированной юридической помощи, а в уголовном процессе – еще и как гарантия реализации обвиняемым (подозреваемым) права на защиту.
Список литературы Необходима ли специальная норма, устанавливающая уголовную ответственность адвоката-защитника?
- В Минюсте обсуждают введение уголовной ответственности адвокатов, действующих во вред доверителям // Адвокатская газета: официальный сайт. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://www.advgazeta.ru/novosti/v-minyuste-obsuzhdayut-vvedenie-ugolovnoy-otvetstvennosti-advokatov-deystvuyushchikh-vo-vred-doveritelyam/ (дата обращения: 15.10.2018). - Загл. с экрана.
- Готовятся поправки, укрепляющие гарантии адвокатской профессии // Адвокатская газета: официальный сайт. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://www.advgazeta.ru/novosti/gotovyatsya-popravki-ukreplyayushchie-garantii-advokatskoy-professii/ (дата обращения: 15.10.2018). - Загл. с экрана.
- Лобанова, Л. В. К вопросу об уголовно-правовых гарантиях реализации права на защиту / Л. В. Лобанова // Вестник экономики, права и социологии. - 2017. - № 4. - С. 177-183.
- Лобанова, Л. В. О некоторых общественно опасных проявлениях нарушения права обвиняемого (подозреваемого) на защиту / Л. В. Лобанова, Н. В. Висков // Общество: политика, экономика, право. - 2017. - № 12. - С. 105-110. - DOI: 10.24158/pep.2017.12.22
- Мельниченко, Р. Лжезащита - первый состав профессионального правонарушения адвоката / Р. Мельниченко // Уголовное право. - 2011. - № 1. - С. 105-110.
- Мельниченко, Р. Уголовная ответственность адвоката за воспрепятствование осуществлению правосудия / Р. Мельниченко // Уголовное право. - 2010. - № 2. - С. 48-50.
- Новый уголовный кодекс Франции / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова, Э. Ф. Побегайло; пер. с нем. М. В. Гарф, Н. Е. Крыловой, М. Ф. Щорса. - М.: Юрид. колледж МГУ, 1993. - 212 с.
- Сахаров, А. Б. Понятие преступления по советскому уголовному праву / А. Б. Сахаров. - М.: Знание, 1973. - 32 с.
- Таганцев, Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 1 / Н. С. Таганцев. - М.: Наука, 1997. - 380 с.
- Уголовное законодательство Норвегии / науч. ред. Ю. В. Голика. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. - 375 с.
- Уголовный кодекс Испании / науч. ред. Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. - М.: Зерцало, 1998. - 218 с.
- Уголовный кодекс Кыргызской Республики // Министерство юстиции Кыргызской Республики: официальный сайт. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568 (дата обращения: 15.10.2018). - Загл. с экрана.
- Уголовный кодекс Республики Казахстан: практич. пособие. - Алматы: Изд-во «Норма-К», 2018. - 244 с.
- Уголовный кодекс Украины. - Харьков: Одиссей, 2012. - 248 с.
- Фурлет, С. Об ответственности за вмешательство в адвокатскую деятельность и воспрепятствование законной деятельности адвоката / С. Фурлет // Московский адвокат. - 2016. - № 1. - С. 23-28.