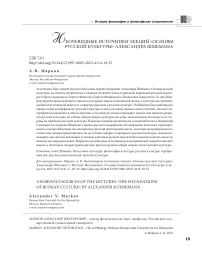Неочевидные источники лекций "Основы русской культуры" Александра Шмемана
Автор: Марков А.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: История философии и философская антропология
Статья в выпуске: 4 (114), 2023 года.
Бесплатный доступ
Курс лекций русского богослова первой эмиграции Александра Шмемана «Основы русской культуры» во многом опирается на суждения интеллектуалов и критиков парижской русской диаспоры: Георгия Адамовича, Георгия Федотова, Георгия Флоровского, Владислава Ходасевича. От них Шмеман перенял представления о едином культурном идеале пушкинской эпохи, о культуре как предмете особой ответственной работы и о природе расколов в русской культуре. Но Шмеман был новатором в оценке самой авторефлексии русской культуры, и здесь он пошел дальше своих учителей. Для него авторефлексия включает в себя остроумие, и поэтому не только порождает модели или проекты развития русской культуры, но и более общую модель культуры как игры, позволяющую посмотреть со стороны на проблемы русской культуры. Показано влияние иронических суждений Гоголя и Владимира Соловьева на позицию Шмемана в оценке русского модернизма. Исследование позволяет характеризовать позицию Шмемана как метакритику русской критической мысли, несмотря на приверженность стилистике литературной критики: он не столько говорит о парадоксах русской культуры, сколько показывает, как система начальных установок ключевых русских мыслителей позволяет описать какое то явление как парадоксальное. Вскрытие неочевидных источников рассматриваемых лекций позволяет понять и потенциал литературной критики при построении общей теории отечественной культуры.
Шмеман, богословие культуры, философия культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/144162849
IDR: 144162849 | УДК: 7.01 | DOI: 10.24412/1997-0803-2023-4114-19-25
Текст научной статьи Неочевидные источники лекций "Основы русской культуры" Александра Шмемана
Лекции русского богослова священника Александра Шмемана (1921–1983) «Основы русской культуры» опираются на два очевидных источника: статьи Георгия Федотова, такие как «Трагедия интеллигенции» [5, c. 16–60], и критиков Владислава Ходасевича и Георгия Адамовича. Такая опора была очевидна для человека, хотя и родившегося в Таллинне, но сформировавшегося в Париже, в кругах интеллигенции, равняющейся на поэзию «парижской ноты» и на дискуссии, продолжающие религиозно-философские прения начала века. Эту парижскую атмосферу можно описать как атмосферу вынужденного фельетона: интеллектуалы должны были регулярно писать в газеты и журналы, обсуждая самые жгучие вопросы, при этом делая как бы случайные, эмоционально насыщенные замечания, вроде отзывов на текущие вызовы и события, но на самом деле обсуждая то, о чём годами думали прежде. Такая сложная оптика, продуманное высказывание под видом ситуативного, позволяла указать на разрывы в русской культуре, на то, что какие-то ее аспекты вызывают непосредственный отклик, а прочие аспекты оказываются далеки от этого отклика, указывая на обостренную антиномичность, фундаментальную противоречивость русской культуры. Достаточно подряд почитать регулярные газетные выступления Ходасевича или Адамовича, как и журнальные статьи Федотова, чтобы убедиться, как описание антиномичности русской культуры начиналось со слишком яркого образа, слишком меткой характеристики по публицистическому горячему поводу, когда всё остальное может рассматриваться как приведшее к этому поводу – и так выстраивается генеалогия культурных противоречий.
Федотова и других исследователей русской культуры, таких как Иванов-Разумник, Шмеман цитирует охотно, иногда даже заменяя имя конкретного исследователя на «один историк русской мысли» [7, с. 152]: «Как заметил один историк русской мысли – о прошлом и о традициях говорят обычно больше всего в критические моменты обрыва традиций, в эпохи распутья и разноголосицы», или даже снимая цитату из Иванова-Разумника о христианском социализме Есенина [7, c. 122], вероятно, чтобы слушатель не считал это суждение окончательным и итоговым, что можно сказать о Есенине. Для Шмемана было не принципиально, кто первым сказал о методе исследования русской культуры и о зависимости методов от текущей болезненной ситуации; авторство для него было значимо там, где создавалось положительное суждение о конкретном явлении. Тем самым можно сказать, что методологию он усваивал как часть общего поля размышлений, как безличный способ разговора о вызовах, настройки безличной оптики, тогда как суждения об отдельных авторах или достижениях русской культуры принадлежали уже не методу, а участливому взгляду, участию в событиях, хотя бы мысленному. Речь не о переживании в банальном смысле, не о вживании в прошлое, но о том, что большие события прошлого отечественной культуры могут быть измерены только столь же большой мыслью о них, открытым восприятием, которое и позволяет мыслить полновесную мысль – и потому почтение тому, кто лично принял на себя эту полновесность того или иного эпизода культурного прошлого.
При этом Адамовича Шмеман не цитирует и не называет по имени, хотя и обязан некоторыми вкусовыми предпочтениями ему, например, неприятию мировоззрения Блока или пониманием ранней Ахматовой как представительницы легкой галантной поэзии, на что обратила внимание О. А. Седакова [8, c. 12]. Седакова там же заметила, что метод Шмемана выглядел как контраст структурализму, апофеоз которого пришёлся как раз на годы этих выступлений Шмемана. Ведь структурализм вскрывает систему оппозиций, стоящих за культурными явлениями, показывая, что просто «классицизм» или просто «культура» невозможны вне системы оппозиций, например, «классическое / романтическое», «высокая культура / народная культура» и т. д. Необходимо вскрыть некоторое число оппозиций, прежде чем перейти к разговору о культуре. Тогда как Шмеман мог говорить о классичности Пушкина или о нравственности дела художника, не выстраивая оппозиции, но принимая аксиому одновременно как лемму, свернутую теорему, показывающую фундаментальные черты отечественной культуры. Скорее, он требовал от слушателя действия – отказа от старых, упрощенных, клишированных представлений о культуре, от неопределенности чувств и расстройства понятий, и в этом как раз Шмеман был последователем Ходасевича, его культа Пушкина и его представлений о дисциплинированности в культуре.
Как раз освоение подхода Ходасевича как методологического, но уже не в простом смысле работы с материалом, а в высшем смысле формирования ключевых понятий, потребовало от Шмемана ссылаться на него осторожно, чтобы слушатель этих лекций-бесед не путал частные суждения с ключевыми высказываниями для этой высшей методологии и не подозревал капризность там, где совершается ответственный переход от обобщающих наблюдений к еще более обобщающим понятиям. Так, он вычеркнул [7, c. 120] из авторского текста суждение Ходасевича, что Есенин «метался в поисках и Руси, и Расеи, и Инонии», и что только слово «Россия» не пришло поэту на ум. Понятно, что ссылка на Ходасевича была бы воспринята как попытка утвердить преимущества эмигрантской поэзии перед советской как более трезвой, тогда как Шмеман, обличая революционное мифотворчество Есенина и многих его современников, предпочитал сразу напомнить слушателю о трансформациях советской культуры и ее утопизма. То есть он говорит об утопизме как о более общем понятии опыта, как модусе сознания, но не как характерной черте чьей-то поэтики или творческой биографии.
От старших наставников-публицистов, во главе с Георгием Федотовым, Шмеман заимствовал ряд представлений о динамике русской культуры, и эти представления блестяще реконструированы им в статье [3]. Пре- жде всего, все эти критики культуры не делали различий между социальной дифференциацией и расколом культуры: как старообрядческий раскол, так и петровские реформы, и появление разночинства, и русский модерн трактовались как расщепление русской культуры, которая в идеале должна быть единой. Далее, все они исходили из того, что интеллигенция не обладала достаточно продуманным, взвешенным и трезвым аппаратом для оценки явлений русской культуры, и в этом смысле сама была жертвой этих расколов, которые и способствовали фрагментарности культурного сознания большинства ее представителей. Наконец, все они так же говорили, что культурная деятельность должна стать планомерной, должна превратиться в создание высших понятий. Так, Г. Флоровский выдвинул идею пересоздания русской мысли по образцу византийского догматически-спекулятивного богословия [6]. Все эти тезисы присутствуют у Шмемана, но с тем отличием, что он ни разу не обращается к другим традициям, исследуя парадоксальность русской культуры вне связи с византийской или западной. У него другой подход – противопоставление русской культуры как парадоксальной более цельным, не обязательно более рациональным, образам других культур.
Такой метод сужает горизонт знаний о русской культуре, и здесь методы презумпции работают не в пользу широкой культурной эрудиции. Например, Шмеман пишет, что хождение в народ существовало только в России, что сами идеи опрощения или адаптации культуры, создания специальной культуры для народа, не будут понятны где-либо еще, и что «нигде, кроме как в России, не строили сознательно и самоотверженно» «культуру для народа» [7, c. 63]. Но даже если не брать те хождения в народ и адаптации культуры для народа, которые развивали социалисты разных стран в XX веке, от германских социал-демократов до испанских республиканцев, можно сказать о влиянии русского примера, и XIX век дает большую панораму такого адаптирующего Просвещения. Это и еврейское просвещение (хаскала), без которого не было бы ни Беньямина, ни Бубера, ни Пастернака; и арабское просвещение в Египте, достигшее размаха благодаря полемике с ориентализмом Ренана; и армянское или греческое Просвещение, обычно поддержанное языковым расколом – статус «демотики» в Греции как народного диалекта известен. Быстрое развитие языка, смена норм, резкий разрыв с языком предков отличает и происходившее в Японии и в Китае в тот же период: прежний разговорный язык дедов становился непонятен новому поколению, для которого создается особая культура. Отдельного разговора заслуживает «креольская» культура в Бразилии, статус английского языка как общенародного в Индии, создание народной культуры во Вьетнаме, Таиланде, Лаосе и ряде других стран, включая такие примеры наших дней, как simple English в США или статус русского языка как интернационального в СНГ. Во всех этих случаях народная культура создается быстро, специально, как упрощенная и адаптированная. Ее создают интеллектуалы, она оказывается связана с политическими дискуссиями и расколами на левых и правых, и она требует от народа более широкого политического участия. Соседний упрек интеллигенции в том, что из-за народолюбия она перешла от Пушкина к Надсону [7, c. 64] выглядит даже несколько гротескно, если вспомнить значение С. Надсона и С. Фруга для формирования еврейского национального самосознания в Российской Империи, то есть вполне нормативной национальной культуры.
Можно говорить, что интеллектуалы, на которых опирается Шмеман, описывали не столько действительную русскую жизнь, сколько воспроизводили самоописание гибнущей аристократической культуры: во Франции она могла изобретать «конец века», «фла-нёрство», «богему» и т. д., а в России она изобретала «лишних людей», «разночинство» и «вражду с мещанством». Это самоописание и оказалось принято за единственный документ русской культуры. В этом смысле ин- тересно, что тезис Федотова и Флоровского о многовековом молчании допетровской русской культуры, не давшей заметных памятников теоретической рефлексии, тоже принадлежит этому самоописанию аристократии, которая как раз требует указания на доблести предков в глубине веков. И если не находит этих доблестей, то воспринимает это как некоторый скандал, как некоторое возможное указание на незаконнорожденность, и потому ищет доблести более близких по времени предков. В этом же духе рассуждает и Шме-ман о петровском и пушкинском чуде, что в сравнении с языком приказов Петра I можно только восхититься «совершеннейшими во всей русской поэзии строфами» «Медного всадника» [7, c. 38]. Хотя в другой перспективе и театр «Глобус» будет авангардным чудом, не больше следующим из Чосера, вопреки утверждению Шмемана [там же], чем Державин следует из Сильвестра Медведева. Такой аристократизм, превращенный в метод, позволяет найти в русской культуре как раз моменты серьезности и дисциплины, то есть откликнуться на критику поведения поэтов Ходасевичем и поведения интеллигенции Федотовым некоторым положительным освещением всего пути русской культуры. Но этот аристократизм подводит, по крайней мере, дважды, когда речь идет о настоящих аристократах: и именно здесь возможно влияние неочевидных источников в попытке поглядеть извне на сам аристократический идеал, а следовательно, еще больше обобщить основные понятия русской культуры, не завися уже не только от публицистики, но и от академического исследования.
Под влиянием Ходасевича, явно цитируя, но без ссылки, его «Некрополь», Шмеман сурово судит Гумилева за то, что тот был храбрым человеком, но в его студии занимались несерьезными вещами, подвижными играми и похвалами пустым стихам Нельдихена. Странно бранить боевого офицера, особенно имея в виду его кончину, за несерьезное отношение к контексту войны и революции, и смысл этого упрека явно не может сводить- ся к какой-то личной неприязни Шмемана к акмеизму, Гумилеву или духу игры в искусстве. Поэтому мы здесь и предполагаем источник, который объясняет, как офицер может быть несерьёзен и почему это плохо. Мы ищем источники, не указанные в комментариях к изданиям [8] и [9].
Источник сведений мы только что назвали, «Некрополь» Ходасевича, а вот источник такого отношения, быть может, эпизод из «Тараса Бульбы», где запорожцы, осадив город, играют в чёт и нечет, и серьезность осады контрастирует с несерьезностью игры. В редакции 1835 года говорится: «Запорожцы удвоили наблюдение, чтобы никакое вспомоществование не могло прийти в город, играли в чет и нечет, курили люльки и с убийственным хладнокровием смотрели на городские стены» [2, c. 120] (в редакции 1842 года добавлено также, что они «менялись добытым оружием» [2, с. 35], где было существенно показать боевые обычаи запорожцев). Именно такое безделье раздражает Андрия, которого Гоголь представляет как байронического героя, над которым властвуют призрачные представления, меняющие свой онтотеологи-ческий статус. Андрия охватывает представление и еще куда-то ведет, направляет – это и есть байронический сюжет (как говорил мой школьный учитель Ю. А. Халфин, «Гоголь переводит Байрона на язык тыкв и горшков»). Тем самым, Шмеман имеет в виду не столько самого Гумилева, сколько «байроническую» интеллигенцию, которая из этой игры сделает выводы, ведущие к утрате культуры, что теперь всё возможно, в том числе, что возможно на одних эмоциях сконструировать культуру, как Андрий на одних эмоциях конструирует новую родину.
Другой упрек – это упрек Блоку, что он очаровался внеконфессиональной недисциплинированной мистикой, а потом разочаровывался и фиксировал свое разочарование, и попытки преодолеть это разочарование обернулись уже сомнительной мистикой «Двенадцати»: «С этой точки зрения показательна драма Блока – вершины и одновре- менно синонима “серебряного века”. Блок первый и глубже всех окунулся в атмосферу мистического возбуждения начала нашего столетия – и первый, своей правдивой душой, понял ее обманчивость. Блок ее отбросил, отверг, – но всё его дальнейшее творчество оказалось, в сущности, пронизанным, до конца наполненным трагической горечью испытанного им разочарования. По-настоящему преодолеть образовавшуюся пустоту, найти новые пути или же вернуться на старые Блок уже не смог, – и, увы, ту же мистику, от которой отрекся, из последних сил он захотел увидеть в кровавом зареве революции, в знаменательной своей поэме “Двенадцать”» [7, c. 97]. Этот упрек Блоку и противопоставление его Пушкину как ответственному создателю культуры, в том числе нравственной культуры золотой середины, проходит красной нитью через все беседы.
Всё это рассуждение по своей структуре копирует знаменитое стихотворение Вл. Соловьева о Некрасове:
Восторг души расчетливым обманом И речью рабскою – живой язык богов, Святыню муз – шумящим балаганом Он заменил и обманул глупцов.
Когда же сам, разбит, разочарован, Тоскуя, вспомнил он святую красоту, Бессильный ум, к земной пыли прикован, Напрасно призывал нетленную мечту. Былой любви пленительные звуки Вложить в скорбящий стих напрасно он хотел, Не поднялись коснеющие руки, И бледный призрак тихо отлетел.
Январь, 1885 [4, с. 74–75]
Казалось бы, что общее между обличением социального пафоса разночинца очень ранним символистом и обличением мистического пафоса символиста критиками всех установок символистской культуры? На самом деле, конечно, существенно то, что выпад Соловьева не остался без внимания Георгия
Адамовича, который упрекнул Соловьева в том, что он написал «несколько благозвучно гладеньких, презрительных строчек» [1, c. 350] с хулой на народного поэта. То есть для Адамовича Некрасов дисгармоничен, и его фонетическая дисгармония и противоречивость мысли ценнее того фарисейства, которое он подозревает в Соловьеве. Но как раз Шмеман считал, что дисгармония Блока была вызвана его стремлением к лидерству, стремлением быть первым во всём, включая мистику; как раз это стремление к лидерству Соловьев и ненавидит в приведенных строках. Конечно, это мало похоже на действительный облик Блока, застенчивого и флегматичного, но вполне соответствует проекту Шмемана создать некоторое метаописание русской культуры. Как Соловьев создавал некоторый проект новой гармонической эстетики, где гармония является вершиной эволюционного развития мира и человечества, а любую ангажированность воспринимал как измену этой эволюции, как предпочтение частностей и отвлеченных фрагментарных задач, так и Шмеман создавал проект гармонической культуры, где ответственность и создает культуру, а любой романтизм или неоромантизм оказывается враждебен настоящей культуре. При этом Блок был свидетелем и обличителем неоромантизма, как для Соловьева Некрасов был невольным обличителем сниженной демократической культуры.
Чтобы увидеть так Гумилева и Блока, надо было смотреть на русскую культуру не изнутри, как на процедуры поиска социальной истины, но извне, как на деформацию этих процедур под влиянием специфической фигуры, например, «байронизма», которая начинает определять зеркально тех, кто не разделяет эти ценности, но оказывается в ситуации зависимости от этой фигуры, внутри замкнутой системы. Блок не разделял ценностей разночинцев, как и русские байронические герои, включая гоголевского Андрия, не собирались быть писателями и героями романа, разделять ценности байроновского жизнестроительства, они наоборот, подчиняются внешним их лич-
J
ности сценариям. Но именно такое внецен-ностное миметическое участие в роковых сценариях и вело к тому, что вдруг Некрасов преломился в Блоке, человеке совсем других ценностей и вкусовых предпочтений.
Итак, мы выяснили, что кроме очевидных источников мысли Шмемана о русской культуре есть менее очевидные, определяющие уже не просто ключевые утверждения, а сам способ отношения к цепочке собственных утверждений. Понятно, что парадоксальность мысли Федотова, как и других, писавших о русской культуре, например, Милюкова, позволила Шмеману сформулировать масштабные утверждения о возможностях и ограничениях русской культуры. Но чтобы сказать, что у культуры есть будущее, Шмема- ну понадобилось посмотреть извне на то, как становятся возможны такие утверждения, как вообще становится возможна русская культура в ее противоречивости – в ее наиболее кричащих и скандальных противоречиях. И здесь как раз роковые сценарии, когда поведение творческого человека определяется не его или ее ценностями, а ценностями другого, стали ключом к перипетиям русской культуры. Расколы, разделения, неурядицы интеллигенции, о которых писали Федотов и Флоровский, и многие другие, стали уже не частью аристократического самоописания, но частью более серьезного метаописания драматических сценариев, которые все оказываются частными и тупиковыми в сравнении с гармонической культурной работой.
Список литературы Неочевидные источники лекций "Основы русской культуры" Александра Шмемана
- Адамович Г. В. Последние новости. 1936-1940. / сост. О. А. Коростелев. Санкт Петербург: Алетейя, 2018. 968 с.
- Гоголь Н. В. Тарас Бульба. / ред. Н. Л. Степанов. Москва: АН СССР, 1963. 273 с. (Литературные памятники).
- Проскурина Е. Н. От Древней Руси к Солженицыну: размышления о русской культуре протоиерея Александра Шмемана // Критика и семиотика. 2018. № 2. С. 310-336. EDN: YORGPZ
- Соловьёв В. С. Стихотворения и шуточные пьесы. / ред. З. Г. Минц. Ленинград: Советский писатель, 1974. 350 с.
- Федотов Г. П. Собрание сочинений. Т. IV. Статьи 30 х годов. Москва: Мартис, 2018. 272 с.
- Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж: Ymca Press, 1937. 580 с.
- Шмеман А. Основы русской культуры. Транскрипт лекций, машинопись. [Электронный ресурс]. URL: https://vtorayaliteratura.com/pdf/shmeman_osnovy_russkoj_kultury_02-31_1971_text.pdf.
- Шмеман А. Основы русской культуры. / сост. Е. Ю. Дорман, предисловие О. А. Седакова. Москва: Православный Свято Тихоновский гуманитарный университет, 2017. 416 с.
- Шмеман А. Основы русской культуры. / предисл. С. А. Шмемана; вступ. ст. М. А. Васильевой, А. А. Тесли; сост., подгот. текста и коммент. М. А. Васильевой. Москва: Русский путь; Православный Свято Тихоновский гуманитарный университет, 2021. 248 с.