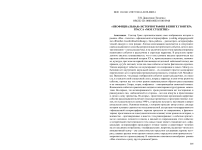"Неофициальная" историография в книге Гюнтера Грасса "Мое столетие"
Автор: Данилина Галина Ивановна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 1 (48), 2019 года.
Бесплатный доступ
Гюнтер Грасс противопоставлял свое изображение истории в романе «Мое столетие» «официальной историографии» («schräg entgegengesetzt zur offiziellen Geschichtsschreibung»). Цель работы - рассмотреть историографический дискурс в этом романе. Логика исследования заключается в следующем: сначала выявляются способы репрезентации исторического события, затем в центре внимания - статус рассказчика, и на заключительном этапе проанализированы взаимосвязи события и рассказчика в структуре нарратива. В результате проведенного анализа устанавливается, что в текст романа введены практически все крупные события немецкой истории ХХ в., происходившие в политике, экономике, культуре, при этом на первый план выведен отдельный небольшой эпизод, как правило, сугубо частный, тогда как само событие остается фактически скрытым. Эпизод маркирует событие, но не раскрывает его содержание и смысл. Между событиями нет внутренней, каузальной связи - их соединяет простое календарное перечисление дат и «пространственная рядоположность» (термин А.В. Михайлова). Выявляется, что ракурс изображения события задают рассказчики, их около ста, и у каждого свой социальный статус, возраст, характер; и своя точка зрения на событие, причем все эти точки зрения знаменательным образом рассогласованы и не совпадают. Споры, ссоры, конфликты - повторяющийся сюжетный момент. Взаимосвязь события и рассказчика создается некоторыми структурными моментами. Во-первых, это ангажированность: среди рассказчиков нет посторонних и равнодушных лиц, наблюдателей со стороны - все они втянуты в происходящее и лично к нему причастны. Во-вторых, хронотопическая организация нарратива: событие рассказывания включает несколько временных и пространственных планов, но осуществляется в конце 1990-х, и прошлое вступает с настоящим в живую актуальную связь. Основные выводы, к которым приходит автор статьи: дискурс истории в романе строится на последовательной деструкции метанарративности «официальной историографии»: картина прошлого не завершенная, а фрагментарная; представлена не одна (идеологически единая) точка зрения на историю, а множество - противоречивых и вместе с тем равноправных; к событию причастны не «великие» личности и имена, а каждый из современников этого события; к исторической ответственности тем самым также имеют отношение все; «официальная» историография продуцирует готовое знание и ориентирует читателя на его пассивное потребление; «неофициальная», напротив, выдвигает читателя в инициативный центр - ему самостоятельно предстоит достраивать картину истории, узнавать разные точки зрения и искать свою, определять свою причастность / непричастность к происходящему. В заключение отмечается своеобразие романа «Мое столетие» в ряду других романов Грасса.
Гюнтер грасс, "мое столетие", историографический дискурс, событие, рассказчик
Короткий адрес: https://sciup.org/149127138
IDR: 149127138 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00024
Текст научной статьи "Неофициальная" историография в книге Гюнтера Грасса "Мое столетие"
История Германии стала для Гюнтера Грасса главной темой уже в первом романе «Жестяной барабан» (1959), а затем и во всех последующих: «Собачьи годы» (1963), «Палтус» (1977), «Крысиха» (1986), «Широкое поле» (1995). Книга «Мое столетие» (1999) [Grass 2002] занимает в этом ряду особое место как своего рода итог рецепции немецкой истории в творчестве писателя в целом.
В течение жизни Гюнтер Грасс активно откликался на все, что происходило в его стране и мире и деятельно сам участвовал во многих событиях; причем откликался и участвовал так, что это непременно расходилось с общепринятыми мнениями, официальной политикой правительства и государства. Так, в конфронтации с большинством своих современников он выступал против объединения Германии [Grass 1994], а публикация его романа «Широкое поле» вызвала амбивалентный общенациональный резонанс: «“Широкое поле” Г. Грасса превратилось из события литературной жизни в явление социокультурного и политического масштаба» [Потемина 2014, 76]. Одних лидеров он поддерживал, с другими жестоко спорил - и часто вопреки утвердившимся авторитетам и ценностям.
Цель, которую Грасс ставил в книге «Мое столетие», он охарактеризовал в одном из своих интервью: «...Наперекор официальной историографии (schrag entgegengesetzt zur offiziellen Geschichtsschreibung) писать об истории с точки зрения всех, кого она затронула, как жертв, так и палачей (aus der Sicht der Betroffenen, der Opfer wie der Tater)» [Buczek 2010, 164]. В чем же состоит его «неофициальная» версия немецкой истории и каким образом она высказывается? Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим структуру нарратива и прежде всего статус события и рассказчика.
История Германии XX в. представлена в основных событиях, происходивших в разных сферах жизни страны - внутренней и международной политике, экономике, культуре. Это две мировые войны, революция 1918 г, разделение Германии, сооружение Стены и ее разрушение, объединение ФРГ и ГДР, развитие сталелитейной и горнорудной промышленности, транспортной системы; денежные реформы и создание индустрии развлечений, молодежные протестные движения, многие яркие события в сфере науки, культуры, спорта - все то, что задавало масштаб и составляло главное содержание истории века.
Впечатление исторической масштабности и полноты изображенного мира укрепляется и через географическую детализацию: картина событий полицентрична, все происходящее распределено по многим большим и малым немецким городам, северным и южным регионам, восточным и западным землям. При этом уже с первого рассказа о ихэтуаньском восстании (для его подавления восемь стран, включая Германию и Россию, направили в Китай соединенные войска) проявлены взаимосвязи Германии со странами Европы и мира - в конфликтах на Ближнем и Дальнем Востоке, кризисе в Персидском заливе, в современных миграционных процессах. Ушедший век тем самым воссоздается в полноте его событийного охвата, и это пространственно объемная, фактографически насыщенная полнота.
Таким образом, выбор событий осуществляется, судя по всему, с исторически беспристрастной, условно объективной точки зрения. Об этом же свидетельствует композиционная организация текста: книга составлена из ста самостоятельных рассказов с названиями, данными по календарному принципу, от «1900» до «1999». Те. соединяет рассказы простая хронологическая последовательность лет, и в заголовках-датах подчеркнуто отсутствует смысловая подсказка, намек на ту или иную оценочную интерпретацию события.
Однако увидеть в книге «Мое столетие», при всем событийном богатстве ее содержания, именно историю Германии вряд ли удастся, поскольку сами события далеко не равнозначны по своему статусу и разновелики до парадоксальности. Крупные и общенациональные, такие как военные сражения («1914», «1942»), или атомные учения и противоатомные марши («1955»), экономическое чудо («1958») или падение Стены («1989»), соседствуют с совсем мелкими и исторически, казалось бы, совсем незначительными; это, например, вхождение в моду шляпы канотье («1902»), пожар на заводе грампластинок («1907») или занятия студенческого семинара («1967»), Контрастность изображаемого иногда разительна: с одной стороны, «битва народов» с сотнями тысяч жертв (напоминание о жертвах сражений под Лейпцигом в 1813 г. и под Верденом в 1884 г. в рассказах «1913» и «1984»), с другой - обыкновенный футбольный матч («1903») или даже пешая загородная прогулка некоей безымянной тещи с четырьмя зятьями («1973»),
Очевидно, что целостной картины истории тут нет, а есть, напротив, картина хаотичная и разорванная - по видимости случайный набор крупных и мелких эпизодов вперемежку, те. в том, что происходило в Германии в XX в., не проступает каузальной исторической связи. Создается впечатление, что события в книге Грасса соотносятся между собой лишь внешне, по принципу «пространственной рядоположности»: так А.В. Михайлов характеризовал особый принцип композиции произведения, когда историю понимают как «свод сведений» и «горизонтально-линейная взаимосвязь и последовательность целого» нарушается [Михайлов 1997 Ь, 128-129].
Предшественники Г. Грасса, как известно, писали о немецкой истории XX столетия совсем иначе; С. Цвейг («Вчерашний мир», 1942), Г. Манн («Обозрение века», 1945), Т. Манн («Германия и немцы», 1945) видели в истории смысловое целое, которое образуют крупные события, связанные причинно-следственными отношениями. У Грасса же события самые разные и логически не соотнесенные, т.е. смыслового единства в картине истории отчетливо нет. Кроме того, при всем множестве сюжетных ситуаций, основная их часть отсылает к войне («<.. > была война, все время война с небольшими перерывами» [Грасс 2013, 342]) и воспринимается тем самым как повторение («<...> история начала повторяться» [Грасс 2013,299]).
Речь о войне прямо или косвенно идет в большинстве рассказов. Это описания хода боя, ранений и смертей; вооружения - пушек, военных кораблей и подводных лодок; памятников жертвам и героям, военных учений. Даты, сюжетные подробности и технические детали различны, но суть происходящего - военная агрессия, расовая ненависть, политический террор - повторяются снова и снова, и потому штурмовики-антисемиты 1930-х и скинхеды 1990-х, террористы из группы «Консул» («1922») и «Красных бригад» («1972») по сути не отличаются друг от друга и представляют явления одного порядка.
Так, о трагических событиях «Хрустальной ночи» («1938») рассказывает школьница начала 1990-х, и это рассказ о том, как на уроке обсуждали историю современную - разрушение Стены. Учитель же начал с вопроса: «А вы знаете, что еще происходило в Германии девятого ноября? Ну, к примеру, ровно пятьдесят один год назад» [Грасс 2013, 124]. Учитель убежден, что в 1938 г. началось то, что потом привело к разделу Германии, и ученики, среди которых турецкие, иранские, курдские подростки, поняли злободневный смысл его слов.
Нельзя не увидеть, что в таком агрессивном нагромождении событий нет не только смысловой, концептуальной цельности, но и движения истории во времени; история как будто разрушилась - остановилась и топчется на месте.
Если в первой половине XX в. так «неконцептуально» писать об истории было не принято, то в последующую эпоху напротив: «<...> в последние десятилетия отношение историографии к феномену события стало проблемным, если не прямо отрицательным», и «сами историки со своими конкретными исследованиями отказались от исторической событийности» [Фрайзе 2011].
В литературоведении исследователи давно выявили, что отказ от больших исторических нарративов стал ключевой чертой постмодерна. Метанарратив - это своего рода аналог «официальной», те. телеологич-ной, историографии - например, как организованной последовательности великих событий прошлого, за которыми стоят великие личности (ср. у С. Цвейга: циклы «Звездные часы человечества», «Строители мира», 1927-1942). Картина истории в книге Грасса отвечает общему духу времени: «Политически активный гражданин Грасс солидаризуется с Грассом - художником в категорическом отвержении любых метанарративов» [Гладилин 2011, 84].
Отказу от метанарративов сопутствовали поиски нового литературного дискурса. «История, разумеется, не кончилась, но История с большой буквы, история-смыслоподательница, мать-история завершилась, богиня История умерла» [Макушинский 2011, 266] - цитирую эссе «Конец истории и конец Истории» А.А. Макушинского, известного современного автора («Пароход в Аргентину», 2014; «Город в долине», 2013). Он передает свое ощущение перемен в эссе «Двадцатый век»: «Закончился он или нет, ему - пора заканчиваться, злосчастному этому веку.<...> Пора заканчи- вать этот век, пора уходить из-под власти его оценок, от обаяния его кумиров. Он создал свой пантеон, в котором нам чего делать. Другие, дальние времена снимаются со своих мест и подходят к нам вплотную» [Макушин-ский 2011, 19].
В ситуации «завершения Истории» Гюнтер Грасс ищет свой путь к новому типу исторического нарратива [Meyer-Gosau 1997], противостоящему построениям в духе Гегеля [Eschel 2002, 64] и grand recits [Schafi 2002], а также через изображение истории XX в. как «пространственной рядоположности» разрозненных и повторяющихся событий.
А.В. Михайлов отмечал, что этот принцип был сформулирован Э. Трунцем в исследованиях поздних текстов Гете, в которых «появляется композиционный стиль бессвязности, разобщенности - это означает, что на некотором уровне произведения синтаксис целого нарушается и что ожидаемая на таком уровне связь частей разрывается. Непосредственный, внешний, сюжетный интерес произведений ослабевает, а возрастать способен лишь внутренний, основанный на единстве личности, её взгляда на мир» [Михайлов 1997 а, 628].
При этом А.В. Михайлов считал, что «пространственное» восприятие истории присуще и современной культуре. «Новому осмыслению, мышлению истории, соответствует герменевтическое пространство, о котором можно сказать, что оно по своему замыслу - собирательное, или итоговое» [Михайлов 2001,257],-отмечает он в начале 1990-х. - «Времена обретают иное измерение, на место развития как движения, оставляющего позади одно и достигающего нового, чего не было прежде, приходит новизна собирания всего бывшего как сущего для нас» [Михайлов 2006, 312]. Отсюда можно заключить, что акцент не на причинно-следственном, а на пространственном соположении событий означает усложнение связей между ними, поскольку это неявные, «герменевтические» связи, они имеют ассоциативный характер и уходят в подтекст.
В книге «Мое столетие» принцип «пространственнойрядоположности» задает ассоциативную взаимосвязь событий на тематическом и хронотопическом уровнях текста. Во-первых, все сюжетные ситуации распадаются на несколько больших тематических групп, поэтому каждое событие воспринимается не изолированно, а на фоне других, тематически сходных, и уже не выглядит хаотически случайным.
Кроме того, внутреннее соотнесение событий осуществляется и хронотопически; организацию нарратива определяет принцип пространственно-временной дистанции. Как правило, собственно событие происходит значительно раньше, чем событие рассказывания о нем, и к хронологически главному моменту, определяющему тот или иной год, естественно подключаются другие, отличающиеся по сюжетной ситуации и составу участников, сюжетно отдаленные и с этим центральным событием внешне не связанные. Безусловно, в поле событийности входит и событие чтения - история столетия как некое целое потенциально воссоздается в читательской рецепции.
Тем самым в каждом рассказе не одно, а сразу три события: для истории страны, для рассказчика и для слушателя-читателя, и они знаменательным образом не совпадают. Соответственно, возникает перспектива не одной, а нескольких версий истории Германии.
Так, в рассказе «1901» событие года - это открытие первой канатной дороги в Вуппертале, именно в 1901 г. Между тем, событием для рассказчика, любителя букинистических раритетов, стала покупка нескольких почтовых открыток (адресант - писательница Э. Ласкер-Шюлер), сделанная в 1940-е. Рассказывает же он об этих открытках в 1990-е, что намечает три разных способа репрезентации немецкой истории XX в.: в свете прогрессивного технологического развития; с точки зрения важных литературных и культурных событий; в социально-политическом аспекте: слово «Вупперталь» в подтексте отсылает к биографии Э. Ласкер-Шюлер (это место ее рождения), и отсюда для современного читателя актуализируется тема преследования евреев и холокоста.
Таким образом, принцип пространственной рядоположности направленно участвует в противодействии «официальной» историографии, ведь в ассоциативное тематическое поле могут войти все события без исключения, а не только те, что согласуются с официально утвержденной исторической концепцией. В противовес Грасс создает полиперспективный нарратив истории - на уровне и события, и рассказчика.
Рассказчиков в книге много, их около ста: у каждого календарного события свой рассказчик. Если событие охватывает несколько лет и соответственно разделяется на ряд календарных эпизодов, рассказчик все равно один и тот же. При этом действующих лиц обычно несколько, и у них может быть свой взгляд на вещи, не совпадающий со взглядами других персонажей, что делает картину событий еще более разноречивой и звучащей, по замечательному сравнению Ф. Нойхауза, как «концерт из множества голосов» [Neuhaus 2003, 330]. Отсюда очевидно, что история Германии предстает в книге не с одной, а со многих точек зрения, в полифонической [Kiefer 2002,243] и полиперспективной рецепции: «Грасс не обвиняет и не выносит приговоров - он рассказывает» [Neuhaus 2003, 330], и монологизм исторического дискурса деконструируется изначально.
Принцип разноречия определяет и состав рассказчиков, неоднородный и контрастный. Рассказчики отличаются по возрасту, сословной и национальной принадлежности и общественному статусу, месту жительства и профессии: солдат-доброволец, кайзер Вильгельм, домохозяйка, шахтер, сотрудник городской администрации, мать семейства, летчик, продавщица, пекарь, пенсионерка, боксер, бизнесмен, школьник, гидротехник, заключенный концлагеря, мастер-стекольщик, стюардесса, университетский преподаватель и многие другие. Между собой их объединяет одна общая черта: никто не рассказывает о событии с чужих слов, все рассказчики лично видели происходившее, так или иначе были в него втянуты и им затронуты; все совершали какие-то поступки, т.е. были непосредственными участниками события.
Поступки эти тоже очень разные, и представлены они в самом широком диапазоне, от командования армиями до сбора грибов, и в этом плане император Вильгельм («1911») и пожилая любительница телесериалов («1985») парадоксально уравнены. Каждый поступок, совершенный не только в государственной, но и в сугубо частной сфере, оказывается причастен к событиям по-настоящему важным и общезначимым: молодая мать организует помощь беженцам, жертвам кораблекрушений, сочинители политических куплетов высмеивают агрессивную политику правительства, студенты на литературном семинаре резко критикуют ангажированных интеллектуалов, пожилая женщина ведет своих родных на пешую прогулку - и это ее путь противодействия бензиновому кризису.
Личная вовлеченность рассказчиков в происходящее видна и в яркой интонации их речи - гневной, восторженной, хвастливой, окрашенной ненавистью, изумлением, гордостью - но не безразличием. Как видим, именно поведенческий аспект, реальный поступок определяет статус рассказчика; события прошлого, таким образом, лишаются анонимности, и история столетия воссоздается множеством точек зрения, за каждой из которых стоит конкретный человек.
Репрезентативный момент для определения статуса рассказчиков состоит и в том, что точки зрения действующих лиц противостоят друг другу и не приходят к согласию; третья, «гармонизирующая» инстанция демонстративно отсутствует. Показателен в этом отношении рассказ «1928», где идет речь о семейных раздорах: ссорятся братья, ссорятся отец и сыновья, и причина разногласий - разные политические убеждения. Один из братьев «социал-демократ», второй «большевик», третий «стал настоящим маленьким наци» [Грасс 2013, 91-92], и найти согласие они неспособны. Рассказчиком выступает мать семейства, что дополнительно акцентирует драматизм происходящего, поскольку назвать правым кого-то одного и встать только на его сторону для нее невозможно.
О Первой мировой войне рассказывают знаменитые писатели Ремарк и Юнгер. У них общий фронтовой опыт - но весь цикл рассказов («1914» -«1918») строится не на близости, а на противопоставлении их точек зрения. Еще один показательный пример - рассказ «1970», в котором воссоздается известный эпизод поездки канцлера Брандта в Польшу. Канцлер встает на колени перед памятником жертвам холокоста, а сообщает об этом событии его непримиримый политический противник. Ф. Нойхауз называет этот эпизод «одним из самых впечатляющих» и указывает на «экстремальный контраст между рассказчиком и событием, формой и содержанием» («extremes Auseinanderfallen von Berichtendem und Bericht, von Form und Inhalt») [Neuhaus 2003, 328].
Таким образом, в отличие от «официальных» версий истории, выдвигающих на передний план великих исторических деятелей и обезличивающих большинство современников как «невеликих», историю столетия в книге Грасса сплетают голоса всех, и палачи и жертвы 312
сталкиваются в общем социальном и жизненном пространстве.
При этом одному из рассказчиков придан особый статус, закрепленный в первой же фразе книги: “Ich, ausgetauscht gegen mich, bin Jahr fur Jahr dabeigewesen” [Grass 2002, 7]: «Я, подменяя себя самого собой самим, неизменно, из года в год при этом присутствовал» [Грасс 2013,5]. Для этого вездесущего рассказчика нет границ в пространстве и времени, и главная его роль - лично находиться там, где происходит каждое описываемое событие на протяжении века. Этот момент личной причастности к происходящему исключительно важен, поскольку в нем фиксируется особая, участная позиция рассказчика по отношению к историческому прошлому. Ее можно выразить так: все, что происходило в Германии, касается и меня, все это имеет ко мне самому самое непосредственное отношение.
В этом вездесущем рассказчике узнается и сам автор книги [Platen 2006]: писатель включил в текст объемные автобиографические фрагменты, в которых он предстает не наблюдателем со стороны, вчуже рассуждающим об ушедших временах, а именно действующим лицом истории, реальным участником всего происходящего.
В «официальной» историографии, как подсказывают слова Грасса в цитировавшемся выше интервью, события прошлого излагаются, как в учебнике истории, только с одной, «официальной» точки зрения - «палачей» или жертв», в зависимости от того, кто находится у власти и определяет политику страны в настоящий момент. Отсюда будет осуществляться и отбор событий и имен. В «неофициальной» историографии, напротив, объединяются разнородные события и разноречивые точки зрения, и история века слагается поступками всех современников эпохи; соответственно, и личная ответственность лежит на каждом. Поэтому книга названа «.Mein Jahrhundert» - «мое», а не «наше» или «их» столетие.
Движение к «неофициальной» историографии заметно уже в структуре первого романа Грасса «Жестяной барабан» (1959). «Неофициальность» точки зрения на немецкую историю XX в. можно увидеть здесь в том, что рассказчик акцентирует «ужас и хаос безобразия немецкой действительности середины XX столетия» [Корнилова 2012, 131]. Оскар Мацерат предпочел притвориться ребенком, чтобы спрятаться от «взрослой» жизни, Фонти («Широкое поле», 1997) избирает эмиграцию и навсегда покидает Германию. Варианты рассказчика, «убегающего» от истории, вытесняемого ею, можно увидеть и во многих других произведениях Грасса; участная позиция рассказчика выходит на первый план именно в книге «Мое столетие».
«Пространственный» статус события, разноголосица мнений рассказчиков и полицентричная структура нарратива манифестируют репрезентативный для Грасса тип исторического дискурса. Развернутый не в прошлое, а в настоящее, он вводит современного читателя в зону поступка, причастности к тому, что происходило в Германии вчера и что происходит сегодня.
Список литературы "Неофициальная" историография в книге Гюнтера Грасса "Мое столетие"
- Грасс Г. Мое столетие: роман / пер. с нем. и прим. С.Л. Фридлянд. СПб., 2013.
- Гладилин Н.В. Становление и актуальное состояние литературы постмодернизма в странах немецкого языка (Германия, Австрия, Швейцария). М., 2011.
- Корнилова Е.Н. Преображение канонической формы экфрасиса в романе Г. Грасса «Жестяной барабан» // Русская германистика: ежегодник Российского союза германистов. Т. 10. Сравнительно-сопоставительные подходы в германистике. М., 2012. С. 126-132.
- Макушинский А.А. У пирамиды. Эссе. Статьи. Фрагменты. М., 2011.
- Михайлов А.В. Вильгельм Дильтей и его школа // Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. СПб., 2006. С. 225-320.
- Михайлов А.В. Гете и поэзия Востока // Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997. С. 596-643.
- Михайлов А.В. Несколько тезисов о теории литературы // Литературоведение как проблема / гл. ред. Т.А. Касаткина. М., 2001. С. 224-279.
- Михайлов А.В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997. С. 128-129.
- Потемина М.С. Литературное поле Германии после объединения // Вестник Балтийского федерального университета. 2014. Вып. 2. С. 74-81.
- Фрайзе М. Историография и событийность // Narratorium. 2011. № 1-2. URL: http:// href='contents.asp?titleid=51647' title='Narratorium'>Narratorium.rggu.ru/article.html?id=2027589 (дата обращения 15.07.2018).
- Grass G. Kurze Rede eines vaterlandslosen Gesellen // Vom Nullpunkt zur Wende. Deutschsprachige Literatur 1945-1990 / hrsg. von H. Kraus. Essen, 1994. S. 81-84.
- Grass G. Mein Jahrhundert. München, 2002.
- Buczek R. Kollektives Gedächtnis - subjektives Erinnern. Erinnerungen an das 20. Jahrhundert von Günter Grass in "Mein Jahrhundert" // Günter Grass als Botschafter der Multikulturalität / hrsg. von M. Kucner. Fernwald, 2010. S. 161-173.
- Eschel A. The Past Recaptured? Günter Grass‘s Mein Jahrhundert and Alexander Klugeˊs Chronik der Gefühle. Gegenwartsliteratur // Ein germanistisches Jahrbuch. A German Studies Yearbook. Herausgeber / ed. P.M. Lützeler. № 1. Tübingen, 2002. S. 63-86.
- Kiefer S. Frühe Polemik und späte Differenzierung: Das Heidegger-Bild von Günter Grass in „Hundejahre" (1963) und „Mein Jahrhundert" (1999) // Weimarer Beiträge. 2002. № 2. S. 242-259.
- Meyer-Gosau F. Ende der Geschichte. Günter Grassˊ Roman „Ein weites Feld" - drei Lehrstücke // Text Kritik. 1997. Heft 1. Günter Grass. S. 3-18.
- Neuhaus V. Günter Grass: Mein Jahrhundert // Romane des 20. Jahrhunderts. Bd. 3. Stuttgart, 2003. S. 320-332.
- Platen E. „Ich, aufgetaucht gegen mich, bin Jahr für Jahr dabei gewesen". Versuch über die Funktion des Autobiographischen und seiner Überschreitung in Günter Grassˊ „Mein Jahrhundert" //Autobiographisches Schreiben in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Bd. 1: Grenzen der Identität und der Fiktionalität / hrsg. von U. Breuer und B. Sandberg. München, 2006. S. 291-305.
- Schafi M. Narrative and History in G. Grasses Mein Jahrhundert. Gegenwartsliteratur // Ein germanistisches Jahrbuch 2002. Vol. 1. Tübingen, 2002. S. 39-62.