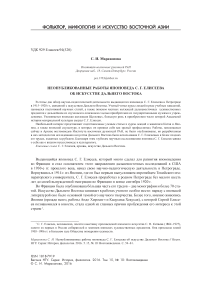Неопубликованные работы японоведа С. Г. Елисеева об искусстве Дальнего Востока
Автор: Марахонова Светлана Ивановна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Фольклор, мифология и искусство Восточной Азии
Статья в выпуске: 10 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье дан обзор научно-педагогической деятельности выдающегося японоведа С. Г. Елисеева в Петрограде в 1915-1920 гг., связанной с искусством Дальнего Востока. Ученый читал курсы лекций в ряде учебных заведений, занимался подготовкой научных статей, а также поиском частных коллекций дальневосточных художественных предметов с дальнейшим их изучением и описанием с целью приобретения их государственными музеями и учреждениями. Упоминается японская коллекция Щегловых, большую роль в приобретении части которой Академией истории материальной культуры сыграл С. Г. Елисеев. Наибольший интерес представляют подготовленные ученым статьи и курсы лекций о живописи Китая и Японии, а также японской скульптуре, в которых он проявил себя как зрелый профессионал. Работы, находящиеся сейчас в Архиве востоковедов Института восточных рукописей РАН, не были опубликованы, но разработанная в них методология исследования искусства Дальнего Востока была использована С. Г. Елисеевым в более поздних его трудах, изданных за рубежом. Благодаря этим глубоким научным исследованиям японовед С. Г. Елисеев заявил о себе как о видном искусствоведе и культурологе.
С. г. елисеев, архивы, искусство дальнего востока
Короткий адрес: https://sciup.org/147219510
IDR: 147219510 | УДК: 929
Текст научной статьи Неопубликованные работы японоведа С. Г. Елисеева об искусстве Дальнего Востока
Выдающийся японовед С. Г. Елисеев, который много сделал для развития японоведения во Франции и стал основателем этого направления дальневосточных исследований в США в 1930-е гг. прошлого века, начал свою научно-педагогическую деятельность в Петрограде. Вернувшись в 1914 г. из Японии, где он был первым выпускником-европейцем Токийского императорского университета, С. Г. Елисеев проработал в родном Петрограде без малого шесть лет до своей вынужденной эмиграции во Францию в конце сентября 1920 г.
Во Франции была опубликована бóльшая часть его трудов – две монографии и более 70 статей. Искусство Дальнего Востока занимает в работах ученого особое место: наряду с японской литературой оно было основной темой его научного творчества. Более того, именно живопись Японии (прежде всего, работы Андо Хиросигэ и Кацусика Хокусая), с которой Сергей Елисеев познакомился в юности, стала одной из главных причин пробуждения его интереса к этой стране 1.
За шесть лет пребывания в Токио С. Г. Елисеев глубоко изучил японское искусство, осматривая буддийские и синтоистские храмы, художественные музеи, керамические фабрики и ремесленные производства. Он ознакомился не только с живописью и скульптурой, но хорошо узнал японскую архитектуру – как храмовую, так и гражданскую, – исследованию которой всегда придавал большое значение.
Работа в научно-педагогических учреждениях Петрограда – университете, Азиатском музее и особенно в Институте истории искусств и Археологической комиссии (затем АИМК), – в большой степени предполагала искусствоведческие изыскания молодого ученого. С. Г. Елисеев занимался поиском в городе частных собраний дальневосточного искусства, их изучением и описанием и, по-видимому, подготовкой их к приобретению государственными музеями и учреждениями. Известно о роли С. Г. Елисеева в покупке Академией истории материальной культуры (АИМК) части японской коллекции дипломата А. Н. Щеглова и его супруги Н. В. Щегловой. Академией были приобретены эфесы японских мечей, цуба с рукоятью 2, в количестве 13 единиц. Ученый подготовил статью «Описание эфесов японских мечей собрания Н. Щегловой», которая, однако, не была опубликована «ввиду типографских затруднений тех лет» 3. К сожалению, рукопись не сохранилась ни в архиве ИИМК, ни в архиве Института восточных рукописей (ИВР), где находится основной фонд документов С. Г. Елисеева в России (фонд 16).
Дальневосточному искусству были посвящены курсы лекций С. Г. Елисеева в Институте истории искусств (ИИИ), где он работал в Отделе древнего и дальневосточного искусства. В течение нескольких лет он рассказывал об истории китайской и японской живописи, а также скульптуры Японии. Курс лекций «Скульптура Японии», который Елисеев читал в 1919– 1920 гг., отложился в архиве ИВР РАН 4. На зимний семестр 1920–1921 гг. в ИИИ профессором С. Г. Елисеевым были заявлены следующие курсы: «История японской живописи»; «История японской художественной культуры (XIV–XVIII вв.)»; «Введение в изучение японской живописи» 5. Однако они не состоялись, поскольку в сентябре 1920 г. профессор был вынужден срочно уехать из Петрограда вместе с семьей.
Похожую лекцию (или доклад) «Особенности дальневосточной скульптуры» С. Г. Елисеев представил вниманию слушателей на одном из публичных заседаний АИМК летом 1920 г. На кафедре японской словесности Петроградского университета, где он преподавал филологические дисциплины, С. Г. Елисеев в 1919 г. прочитал спецкурс «История японской эстетики» 6, безусловно, связанный с японским искусством. С подобной лекцией «Эстетические воззрения дальневосточной живописи» 30 апреля 1920 г. ученый выступил в Обществе поощрения художеств 7.
Восьмого мая 1919 г. в ИИИ был запланирован доклад С. Г. Елисеева «О японском орнаменте Асидэ», но он не состоялся ввиду болезни докладчика. Весьма вероятно, что после болезни в мае 1919 г. ученый прочитал в ИИИ другой доклад – «Идеалистический пейзаж в Японии и Сэссю» 8, который позднее был переработан в статью.
Рукопись этой статьи находится сейчас в Архиве востоковедов. Она в очень хорошем состоянии, но не окончена и обрывается описанием одной из картин Сэссю. Это единственный из доступных трудов востоковеда о японской живописи периода его деятельности в Петрограде. О китайском искусстве дошло три его работы – вероятно, статьи или лекции: «Об истории китайской живописи»; «Об искусстве Китая в эпоху после Тан»; «Китайское искусство времени Юаньской династии» 9.
С. Г. Елисеев, единственный из молодых российских японоведов-профессионалов, среди которых были О. О. Розенберг, Е. Д. Поливанов, М. Н. Рамминг, братья Олег В. и Орест В. Плетнеры, Н. А. Невский и Н. И. Конрад, занялся изучением особенностей японского искусства. Не испытывали интереса к этой проблематике и их предшественники – В. Я. Костылев, Г. И. Доля, Е. Г. Спальвин и Д. М. Позднеев. Знаменитые европейские японоведы Б. Х. Чемберлен, К. Флоренц, У. Дж. Астон также не создали специальных искусствоведческих работ, а книга Дж. Б. Сэнсома «Япония: краткая история культуры» (“Japan: a Short Cultural History”), на долгие годы ставшая лучшим изданием такого рода, вышла в свет лишь в 1931 г.
Зато о дальневосточном искусстве много писали европейские искусствоведы – О. Мюн-стерберг (Münsterberg), Ж. де Трессан (Tressan), Б. Христиансен (Christiansen), Грамм (Gramm), Э. Феноллоза (Fеnollosa), Р. Петруччи (Petrucci), чьи работы были известны С. Г. Елисееву. Многие из них побывали в Японии, однако, за исключением Феноллозы и Петруччи, они не владели восточными языками. Молодой японовед имел неоспоримое преимущество перед ними, так как был знаком с первоисточниками и критическими работами японских исследователей Фудзиока Сакутаро, Курода Гэндзи, Анэдзаки Масахару, Итикава Даидзи, Окакура Какудзо и др.
Статья С. Г. Елисеева, о которой идет речь, составляет 47 рукописных страниц. Ученый констатирует, что интерес европейцев к Дальнему Востоку, вызванный «открытием» Японии в эпоху Мэйдзи, в начале века усилился благодаря активной деятельности научных экспедиций. «Все новые и новые памятники дальневосточного искусства открывают нам ученые и археологи, европейцы и азиаты, медленно движется изучение художественных сокровищ, скрытых в кладовых знатных китайцев или в сокровищницах японских храмов… » 10.
Работа С. Г. Елисеева посвящена не только живописи знаменитого средневекового японского художника и дзэнского монаха Сэссю Тоё (1420–1506). Автор представляет глубокий анализ развития пейзажного жанра в искусстве Китая и Японии: зарождение пейзажа и трансформацию его роли в процессе эволюции живописи в Китае, начиная с эпохи Тан (618–907). И в китайских картинах, и в японских работах, написанных под влиянием Танской живописи, «у художника уже больше чутья и любви к природе, но все-таки пейзаж для него только еще аксессуар <…> художник бережно относится к пейзажу, с любовью выписывает листья деревьев и красиво компанует оранжевые апельсины по зеленому фону листвы, но общей концепции пейзажа у него нет, и пейзаж только фон для всего остального» 11.
Пейзаж, в танскую эпоху еще не игравший доминирующей роли в живописи, в поэзии занимал первое место. Поэты, создавая художественные образы, «вели художников к природе», и неудивительно, что авторами трактатов о живописи становились поэты. «Уже в танскую эпоху мы имеем трактат поэта и художника Ван Вэя (699–759) о том, как писать пейзаж <…> подробный рецепт композиции пейзажа и указания того, как нужно писать деревья и как нужно писать камни. Этим трактатом, легшим в основу всей китайской пейзажной живописи, Ван Вэй положил основу идеалистическому пейзажу. Он дает указания, как составлять пейзаж с художественной точки зрения»12.
Ученый объясняет формирование собственно японского пейзажа прекращением сношений с Китаем, что привело к созданию японскими художниками в XI в. национального пейзажа. Однако, по мнению С. Г. Елисеева, они все еще мало внимания обращали на композицию пейзажа, он для них все еще оставался декорацией, фоном. «И в этом пейзаже еще нет того этического элемента, той нарочитости композиции, которые являются характерными для идеалистического пейзажа» 13.
С. Г. Елисеев прослеживает, как в эпоху Сун (960–1279) в Китае под влиянием дзэн-буддизма, учившего, что эстетическое созерцание природы располагает человека к беседе с са- мим собой, пейзажная живопись достигла своей кульминации в работах Го Си (ок. 1010–1090) и позднее – Ма Юаня (1160–1225).
Исследователь отмечает, что жизнь и творчество Сэссю приходятся на время правления покровительствовавших дзэнским художникам сёгунов из рода Асикага (1338–1573), когда «сношения с Китаем возобновляются, отправляются целые экспедиции, которые вывозят картины и художественные вещи <…>. Из Китая приезжают художники, японцы ездят учиться в Китай» 14. С. Г. Елисеев указывает на происхождение творческой манеры Сэссю из заимствованной из Китая монохромной пейзажной живописи тушью, которая в Японии получила наименование суйбоку-га . Автор описывает жизненный путь Сэссю, его образование и духовное развитие в дзэнском монастыре Сёкокудзи в Киото, где его учителями были Дзёсэцу (ок. 1410–?) и Сюбун (1414–1465), чьи пейзажи «славились мягкостью тона и умением передать даль» 15. Пребывание в ряде других дзэнских монастырей в Японии и Китае сформировало духовный стержень Сэссю и способствовало развитию его творческой неординарности.
Ученый пишет, что в первых своих работах Сэссю «еще мало самостоятелен и находится под влиянием Дзёсэцу, но уже в них мы видим эпическую сторону идеального ландшафта <…> уже в этих работах у Сэссю все пронизано известным настроением и пейзаж для него такой же способ, как лирика, для передачи своих субъективных представлений. От пейзажей Дзёсэцу его тянет к пейзажам Ма Юань с их горами и мистическим настроением, его манит к себе широкий размах южной природы, которую изображал Ма Юань <…> Мы видим, как Сэссю всматривается в каждое явление природы и им старается передать пережитое <…> он пишет по памяти и то, что он видел, устраняя из пейзажа все случайное и давая ему свое основное настроение» 16.
Картины Сэссю выражали определенные состояния души, и главным в них были простота и спокойствие. «Весь пейзаж проникнут каким-то спокойствием, и нельзя сказать, откуда исходит источник света, ибо нет теней. Их дальневосточная живопись избегает, так как пейзаж не должен носить ничего определенного, он наше переживание. Это типичный идеальный пейзаж… Часто общее настроение картины он усиливает положением фигур, которые как бы дополняют недосказанное художником» 17.
С. Г. Елисеев особо подчеркивает, что Сэссю, хорошо знакомый сл требованиями китайских художественных трактатов Ван Вэя и других «эстетов», тем не менее не допускает в своих композициях искусственности. Ученый признает творчество Сэссю самостоятельным только после его «китайского» периода. Подробно разбирая композиционные особенности Сэссю и его художественные приемы на примере нескольких его пейзажей, С. Г. Елисеев обращает внимание на создание нескольких планов в его картинах: переднего, среднего и дальнего (например, сосны, затем горы и затем дальние горы). По мнению отечественных искусствоведов, в произведении «Ама-но хасидатэ» («Небесный мост»), написанном Сэссю в последний период своего творчества, он впервые соединил приемы, восходившие к древней японской живописи ямато-э , и приемы суйбоку-га для изображения реального ландшафта. Это было преодолением противоречия визуального опыта и канонизированных систем в передаче образа природы [Николаева, 2009. С. 99].
Технике Сэссю С. Г. Елисеев уделяет немного внимания, считая главной в ней умение художника передать в изображениях природы ритм и жизнь. В дальнейшем Дж. Б. Сэнсом в известном пейзажном свитке Сэссю особо отмечал непрерывность композиции как его замечательное достижение. «Это не просто бессистемное расположение набросков: в нем присутствует ритм, собственная архитектура, и по переплетению мотивов его можно сравнить с музыкальной симфонией. Из таких картин <…> возникает собственно японская школа, названная Кано…» [Сэнсом, 2002. С. 412].
Пожалуй, наиболее точно С. Г. Елисеев характеризует творчество Сэссю следующим образом: «Сэссю как выразитель культуры времени Асикага прекрасно понимал, что суггестивностью в живописи лучше можно передать те идеи, которые ему открывались во время его созерцаний, когда он постигал свою душу, и этим он нам так же близок, как и наши крупные мастера, так как в своем стремлении к истине человеческая душа едина во всем мире» 18. В дальнейшем, уже находясь в Париже, С. Г. Елисеев посвятит целую статью японской монохромной пейзажной живописи, где основное место по праву будет уделено выдающемуся художнику Сэссю 19.
Неоконченная работа молодого востоковеда, обосновавшая происхождение творческой манеры Сэссю из китайской пейзажной живописи эпохи Сун, была первой работой такого рода среди российских японоведов-профессионалов. Тем не менее существовало уже достаточное количество серьезных критических статей как японских, так и западных авторов на эту тему. Однако С. Г. Елисеев нашел ту область дальневосточного искусства, где проявил себя как новатор и продемонстрировал наиболее высокий уровень компетенции. Это область дальневосточной скульптуры, чему были посвящены курсы лекций и доклады ученого.
Европейские авторы в своих трудах об искусстве Дальнего Востока почти не уделяли внимания скульптуре Китая, Кореи, Маньчжурии и Японии, поскольку она была сложнее для понимания, чем живопись. Наиболее полная монография о японской храмовой архитектуре и скульптуре французского искусствоведа А. Мэбона (Maybon) была опубликована позднее – около 1928 г. 20 Некоторые работы японских авторов печатались в японском журнале «Кокка», однако журнал был труднодоступен в советской России. Сам С. Г. Елисеев называл свои исследования дальневосточного искусства «пионерскими» и сокрушался об отсутствии японских монографий и статей: «…мною намечены идеалы для изучения дальневосточного искусства вообще, скульптуры, в частности. Сделано мало. Не знаю, насколько справлюсь и сумею ответить на все вопросы и осветить со всех нужных сторон» 21.
В курсе лекций по японской скульптуре, которые С. Г. Елисеев читал в ИИИ, он очень подробно рассматривает ее возникновение в IV–V вв. и дальнейшее развитие. Периодом расцвета японской скульптуры ученый считает эпоху Нара (710–794) и представляет точное и содержательное ее описание. При этом он делает методологически важное замечание: при характеристике японской скульптуры необходимо помнить, что она была основана на других принципах, нежели античная, в которой главным был человек. Здесь же важно было символическое, абстрактное изображение. Отличить стилистические тонкости в фигурах, которые казались одинаковыми, было нелегко. Сохранившаяся в АВ объемистая рукопись – более 200 страниц, – лишь фрагмент лекционного курса.
Лучшее представление о С. Г. Елисееве как о профессионале дает его лекция «Особенности дальневосточной скульптуры», прочитанная им в ИИМК летом 1920 г. На конкретном материале докладчик обосновывает важнейшие теоретические положения искусствоведения. Кратко и доступно он излагает причины объективных трудностей в понимании европейцами искусства Дальнего Востока, объясняя их тем, что у европейцев другой строй ментальности и психики. Даже в европейской искусствоведческой традиции понимание скульптуры считалось более трудным, чем понимание живописи. С восприятием дальневосточной скульптуры дело обстояло еще сложнее.
Европейцам она была неинтересна и малопонятна, так как они редко ее видели, а главное, не умели ее правильно воспринять ни умозрительно, ни эстетически. «Каждый знакомившийся с древневосточным искусством испытывает трудность его созерцания, потому что должен постоянно иметь в виду наличие психических предпосылок, которые не соответствуют нашим. Мы чувствуем за внешними видимыми формами искусства другой, невидимый и чуждый нам мир. Мы сможем понять дальневосточную скульптуру, если подойдем к ней самой, позна- комившись сначала внимательно с ее особенностями, узнав их закономерности и их необходимость. Тогда нам станет ясна внутренняя сторона и внешняя форма, как точное выявление этой внутренней жизни» 22.
С. Г. Елисеев прослеживает особенности и изменения скульптурных изображений, присущие разным историческим и культурным периодам, главным образом на примере Японии. Так, в древней скульптуре Японии (VII–Х вв.) изображение было «пронизано спокойствием и полно достоинства», а в более поздний период, в XIII в., с изменением миропонимания изменились и скульптурные темы.
Ученый рассказывает, как по-разному влияет на зрительское восприятие скульптурное изображение движения с напряжением мышц или без напряжения 23. В отличие от европейской скульптуры с ее концентрацией на человеческом теле для дальневосточных ваятелей человеческая фигура имела значение лишь как выражение духовного содержания. Причем главное выражение было не в лице, а в жестах 24. Интересны наблюдения С. Г. Елисеева над скульптурным изображением одежд, которые могли выполнять разные функции вплоть до отображения состояния души, над важностью освещения и особенностью рассмотрения скульптуры с разных точек зрения, а также изменением восприятия человеком зрительных образов на протяжении веков.
Эти интересные работы С. Г. Елисеева так и не были опубликованы, однако разработанная им в Петрограде во втором десятилетии ХХ в. методология исследования дальневосточного искусства (прежде всего, скульптуры) легла в основу созданных им позднее трудов, которые прославили его научное имя. Созданные почти столетие назад, они не утратили своего значения, поскольку отражают научную компетентность молодого японоведа и демонстрируют степень изученности вопроса во второй половине 1910-х гг. в России и за рубежом.
Список сокращений
АВ ИВР РАН – Архив востоковедов Института восточных рукописей Российской академии наук
АИМК – Академия истории материальной культуры
ИИИ – Институт истории искусств
ИИМК – Институт истории материальной культуры
Список литературы Неопубликованные работы японоведа С. Г. Елисеева об искусстве Дальнего Востока
- Николаева Н. С. Образы Японии: очерки и заметки. М.: Изд. фирма «Вост. лит. РАН», 2009. 206 с.
- Сэнсом Дж. Б. Япония: краткая история культуры. СПб.: Евразия, 2002. 572 с.
- Elisséev S. Sur le Paysage à l'Encre de Chine du Japon//Revue des Arts Asiatiques. 1925. № 2. P. 30-38.
- Maybon A. Les temples du Japon. Architecture et sculpture. Paris: E. de Boccard, б/г (ок. 1928).