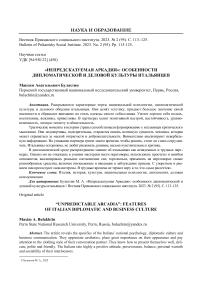«Непредсказуемая Аркадия»: особенности дипломатической и деловой культуры итальянцев
Автор: Булахтин М. А.
Журнал: Вестник Прикамского социального института.
Рубрика: Наука и образование
Статья в выпуске: 2 (95), 2023 года.
Бесплатный доступ
Раскрываются характерные черты национальной психологии, дипломатической культуры и делового общения итальянцев. Они ценят эстетику, придают большое значение своей внешности и обращают внимание на стиль одежды своего собеседника. Умеют хорошо себя подать, воспитанны, вежливы, приветливы. В партнерах ценят позитивный настрой, настойчивость, уравновешенность, личную теплоту и общительность. Трагические моменты в истории страны способствовали формированию у итальянцев критического мышления. Они недоверчивы, подозрительны, стараются понять истинную сущность человека, которая может скрываться за маской открытости и доброжелательности. Внимательно анализируют невербальную информацию. На узнавание партнера тратят много времени, чтобы решить, стоит ли с ним сотрудничать. Итальянцы осторожны, не любят рисковать, ранимы, весьма чувствительны к критике. В дипломатической среде распространено мнение об итальянцах как ненадежных и трудных партнерах. Однако им не откажешь в умении мастерски вести переговоры, использовать просчеты и ошибки оппонентов, анализировать реальное соотношение сил, торговаться, применять на переговорах самые разнообразные средства, включая отвлекающие и вводящие в заблуждение приемы. С упорством и рвением они преследуют свои интересы. В трудные времена не теряют веру в то, что «дым рассеется».
Италия, история, культура, национальная психология, дипломатия, деловая коммуникация
Короткий адрес: https://sciup.org/14128208
IDR: 14128208 | УДК: [94:930.22] (450)
Текст научной статьи «Непредсказуемая Аркадия»: особенности дипломатической и деловой культуры итальянцев
«Все должно радовать глаз»
И. В. Гете называл Италию «Аркадией» (землей обетованной), А. И. Герцен - «великой красавицей». Для иностранцев она стала символом жизненной силы. Ежегодно в Италию устремляется множество туристов со всего света. Немногие страны так сильно ассоциируются со счастьем, как Италия. «Одно ее название навевает мысли о солнечных днях, синем небе, сверкающем солнце, восхитительной еде, красивых и хорошо одетых людях, музеях, в которых хранится большая часть шедевров западноевропейского искусства», - пишет Дж. Хупер [1, c. 333].
Многие наблюдатели отмечают страсть итальянцев к красоте, зацикленность на прекрасном, любовь к вычурности, помпезности, пышности и зрелищам. Примечательно, что в Италии чаще используют оценочные слова «красиво» (bello) или «некрасиво» (brutto), чем «плохо» или «хорошо» [2, p. 18]. «Высокое и дорогое вино искусства густо бродит в итальянской крови», - писал русский прозаик В. Г. Лидин [3, c. 49].
Итальянцев называют «учителями мира». Они подарили человечеству эпоху Возрождения, стиль барокко, заложили основы современной западной культуры. Итальянские архитекторы и каменщики строили церкви и величественные дворцы по всей католической Европе, особенно в Вене, Мадриде, Праге и Варшаве. Работами художника греко-итальянского происхождения К. Брумиди украшен Капитолий в Вашингтоне. Аристотель Фьораванти построил главный храм Москвы - Успенский собор (1475-1479). Марк Фрязин, П. А. Солари, Алевиз Новый построили дворцовые палаты в Москве, Архангельский собор, кремлевские укрепления. В Санкт-Петербурге итальянский архитектор Доминико Трезини построил Петропавловскую крепость, Антонио Ринальди - Мраморный дворец, Бартоломео Растрелли - Зимний дворец. Благодаря усилиям Карло Росси свой нынешний вид приобрели Дворцовая и Сенатская площади. Уже в XVIII в. Санкт-Петербург приобрел славу «самого итальянского» города России [4].
Большое значение итальянцы придают своему внешнему виду, «рабски» следуют моде. К уходу за собой относятся очень серьезно, хотят хорошо выглядеть. Неэлегантность осуждается. «Итальянцы доводят свою внешность до полного совершенства. Они чисто вымыты
<...> гладко выбриты, каждый волосок на своем месте, ни единой морщинки на одежде, ни чешуйки перхоти на воротнике, начищенная до блеска обувь, хорошо накрашенные губы <...> маникюр, педикюр, ослепительная улыбка», - отмечает шведская писательница и журналистка К. Каппелин [7]. Чем вы придирчивее и конкретнее при выборе одежды в магазине, тем больше вас ценят. Тщательность, с которой покупаются обувь, скатерти, сумки и одежда, необычайна и для иностранца непостижима [2, р. 111].
Итальянцы - очень воспитанные люди, с хорошими манерами. «[Образованные итальянцы знают], что обуздание человеческих инстинктов составляет суть цивилизованной жизни», - писал Л. Барзини [5, р. 180]. Большое значение для них имеет понятие «1а bella flgura». Это означает не только необходимость иметь элегантный внешний вид, но и умение вести себя вежливо, уважительно, благопристойно. В азиатских культурах такое поведение называют умением «сохранять лицо»: человек должен вести себя достойно в самых сложных обстоятельствах. При этом следует сохранять уважительное отношение не только к себе, но и к партнеру, чтобы он чувствовал себя комфортно и достойно («не уронить лица» собеседника). Нельзя допускать «бесчувственного» поведения в отношении другого человека. Важно создавать такую атмосферу общения, в которой всем будет комфортно. Соблюдение этих принципов позволяет поддерживать хорошие личные отношения [8; 9].
Как полагает Дж. Хупер, итальянцы обладают талантом «хорошенько приправлять жизнь медом» [1, с. 112], часто делают комплименты, которые с радостью принимаются [10]. Критические замечания в адрес собеседника не высказываются открыто, чтобы не противоречить требованию «bella flgura». Критика выражается чаще всего наедине и косвенно. Итальянцы не любят признавать ошибки. Бывают ситуации, когда приходится искать совершенно новые пути решения проблемы, и делается это только ради того, чтобы не принизить «bella flgura» сотрудника или делового партнера, указав ему на ошибки. На критику, сформулированную слишком прямо, может последовать негативная эмоциональная реакция, поскольку критикуемый может почувствовать себя лично оскорбленным [8]. В общении с итальянцами рекомендуется подчеркивать множество положительных моментов, прежде чем кратко намекнуть на отрицательные. Общение в дружественной форме является главным приоритетом в Италии [9].
Итальянцев принято считать веселыми и жизнерадостными. Бытует мнение, что они смотрят на жизнь оптимистично. Б. Северньини считает, что его соотечественники придерживаются принципа «оставаться в седле, несмотря на жизненные невзгоды <_> борьба еще не выиграна, но и не проиграна» [11, р. 135-136]. «Италия - страна бедности, а бедноте этой живется здесь так же трудно, тесно и обидно, как и повсюду на свете, но она шумит, смеется и поет с таким беззаботным и легкомысленным видом, производит впечатление такого смелого и задорного веселья и при том так добродушна и так вежлива, что это веселое настроение невольно передается и вам», - отмечалось в географическом сборнике Европы, изданном в 1908 г. [3, с. 301].
Российские исследователи, писатели и публицисты обращали внимание на «необычайно высокую культуру итальянского духа», добродушие и любезность итальянцев. «...Я увидел одушевленные лица, слезы, я услышал горячие слова. _Я попал в Италию в такую торжественную минуту ее жизни, исполненную тем изящным величием, которое присуще всему итальянскому...», - писал А. И. Герцен [12, с. 77]. Итальянцы коммуникабельны, легко идут на контакт, настроены дружественно в отношении иностранцев, считает российский дипломат В. И. Попов [13, с. 273]. Человечность, художественный вкус, тонкое восприятие всего прекрасного, вежливость, смышленость, находчивость и живость итальянцев отмечает Е. В. Мельникова [14, с. 156].
Некоторые исследователи указывают на высокое самомнение итальянцев. «Мы - исключительные, умные, общительные, гибкие и чувствительные», - пишет Б. Северньини [11, р. 7]. В глазах иностранцев жители Апеннин пытаются создать о себе имидж страстных и обаятельных людей [6, р. 11]. Они уверены в том, что являются также более ловкими и сообразительными.
По мнению В. И. Попова, итальянцы считают себя «самой культурной державой мира» [13, с. 273]. Их народной душе присуще чувство гордости. Более того, как полагает Л. Барзи-ни, каждый итальянец считает себя «уникальным образцом человечности, самобытной личностью, заслуживающей особого внимания». «Никто в Италии не признается в том, что он -“обычный человек”, каждый убеждает себя, что он - один из любимых сыновей богов», -считает публицист [5, р. 79].
Итальянцы любят «покрасоваться» на публике. Здесь многое делается напоказ. «В Италии полно актеров, их 50 млн, и почти все они - хорошие», - отмечал американский режиссер О. Уэллс (цит. по [11, р. 17]). «Играть они учатся в детстве и продолжают актерствовать всю жизнь», - пишет М. Солли [6, р. 13]. «Шоу часто разыгрывается и для продвижения интересов актера. Сколько невозможных вещей становится возможным, сколько трудностей можно преодолеть с помощью правильной одежды, правильного выражения лица, правильных слов. С их помощью можно завоевать внимание, благожелательность и симпатию общества в целом или одного влиятельного человека», - полагает Л. Барзини [5, р. 81].
«Прекрасное трудно»
Трагические моменты прошлого страны оставили глубокий след в исторической памяти итальянцев, повлияли на их психологию. Неслучайно в национальном гимне Италии есть такие слова: «На протяжении веков нас попирали, высмеивали». В итальянском народе, как полагает Дж. Хупер, есть глубоко скрытое чувство незащищенности, отражающее историческую уязвимость жителей Апеннин [1, с. 105]. За свою многовековую историю Италия многократно подвергалась захватам, разграблениям, унижениям. Трагическим периодом были так называемые Итальянские войны, когда весь Апеннинский полуостров в течение шестидесяти пяти лет (1494-1559 гг.) являлся ареной военных столкновений крупнейших европейских держав и итальянских политических образований. Об этих событиях с горечью писал Н. Макиавелли. Именно тогда возникли его знаменитые труды, раскрывшие без прикрас законы политической жизни, царившие в Европе.
Известный итальянский писатель и публицист Дж. Преццолини отмечал, что Н. Макиавелли «слишком многое понял об этом мире». При изучении его эпохи хорошо видно, как торжествуют сила и хитрость [15, р. 250]. Исследователи считают, что флорентийский мыслитель основывался на жестком реализме, «критически относился к человеку, для которого характерны непостоянство, неблагодарность, вероломство, склонность к дурным поступкам, многие другие пороки» [16, с. 41]. Как писал сам Н. Макиавелли, необходимо исходить из того, что существует «множество людей, чуждых добру» [17, с. 201].
Давая советы государю, он отмечал, что люди уважают силу, которая внушает им страх. «Может возникнуть спор, - писал мыслитель, - что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись. Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх. Ибо о людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет нажива: пока ты делаешь им добро, они твои всей душой, обещают ничего для тебя не щадить... но когда у тебя явится в них нужда, они тотчас от тебя отвернутся» [17, с. 209-210].
Интересно и другое наблюдение Н. Макиавелли: «...люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им любовь, нежели того, кто внушает им страх, ибо любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, которым пренебречь невозможно» [17, с. 210].
Особое внимание Н. Макиавелли уделял анализу роли обмана в политике. «Великие дела, - писал мыслитель, - удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца; такие государи, в конечном счете, преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность» [17, с. 213]. «...Разумный правитель, - продолжал Макиавелли, - не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание. Такой совет был бы недостойным, если бы люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты должен поступать с ними так же» [17, с.214].
На почве этих рассуждений возникло понятие «макиавеллизм», отражавшее беспринципность, аморальное поведение в политике, когда ради достижения цели оправдываются любые средства. В. И. Попов называет Макиавелли «одним из апологетов тезиса о возможности и необходимости лжи в дипломатии» [13, с. 314]. Тем самым, по мнению исследователя, Н. Макиавелли добавил ей «плохую славу». «...В ряде случаев он даже отошел от того положительного, что внесли в дипломатию Греция и Рим, в том числе от принципа “договоры должны соблюдаться”», - считает В. И. Попов [13,с. 18].
Однако другие исследователи полагают, что не следует обвинять в «аморализме» самого Макиавелли. По мнению М. А. Юсима, итальянский мыслитель действительно считал, что для «толпы» главным является успех. Каким образом правитель его достигает - не имеет значения. Однако сам Н. Макиавелли не одобрял достижения цели любыми средствами [18].
Профессор К. М. Долгов также считает, что Макиавелли в первую очередь констатировал аморализм современного ему общества, особенно власть имущих, и призывал государя быть бдительным, чтобы не стать жертвой тех, кто в любой момент может нарушить обещание, чтобы уничтожить союзника, друга и самого близкого человека в угоду своим интересам [19,с. 80].
-
В. И. Попов тоже признает, что Н. Макиавелли понимал пагубность лжи в дипломатии. Так, в своих инструкциях флорентийскому послу при дворе Карла V он указывал, что посол должен стремиться к тому, чтобы не прослыть человеком, который думает одно, а говорит другое. «Это показывает, - считал мыслитель, - как ошибаются те, кто видит в интриге сущность дипломатической профессии» (цит. по [13, с. 315]).
Л. Барзини указывает на то, что Н. Макиавелли «не выдумал свои теории из воздуха, а выводил их из современных событий в своей стране и поведения своих соотечественников» [5, р. 313]. По мнению публициста, Макиавелли не хотел, чтобы его считали «дураком», не понимающим законы, в соответствии с которыми устроен мир политики. Он чувствовал себя гораздо увереннее, полагая, что «худшее никогда не исчезает» [5,р. 173].
Тем не менее трактаты Н. Макиавелли стали мишенью для нападок. Самого мыслителя изображали «исчадием ада», воплощением всех политических пороков. В эпоху Реформации в середине XVI в. Макиавелли называли безбожником, учителем тиранов. Работу «Государь» внесли в список запрещенных книг. В ходе межконфессиональной полемики протестанты (И. Жантийе) стали обвинять идеологов католицизма в «макиавеллизме» и заявляли, что католики ради достижения своих целей готовы использовать любые средства. Католические авторы, в свою очередь, также стали применять это слово уже к самим протестантам [20, с. 607].
Весьма критичные оценки итальянской политической культуры давал видный британский дипломат Г. Никольсон (1886-1968). Его суждения по поводу «итальянской системы» используются и многими современными исследователями. Отмечая важную роль Венеции в становлении итальянской дипломатии, Г. Никольсон писал: «Венецианцы благодаря своим продолжительным и тесным отношениям с Востоком переняли византийскую теорию дипломатии и передали своим итальянским соотечественникам восточную склонность к двуличию и подозрительности» (курсив мой. - М.Б.) [21, с. 53].
В своей работе «Дипломатическое искусство» Г. Никольсон отмечал «физическую» слабость итальянских политических образований (за исключением Венеции) в эпоху Средневековья, их «хрупкость» и «шаткость». Этим обстоятельством он объяснял склонность ита- льянских правителей к коварству и подозрительности. Не имея значительных средств для обороны, они пытались компенсировать свою слабость с помощью активной дипломатии. Сознавая эфемерность своего существования, эти «деспоты и олигархи» стремились к немедленной, сиюминутной выгоде и даже «не помышляли о ценности политики дальнего прицела или о создании атмосферы взаимного доверия». Для них искусство переговоров было «сплетением хитрости, риска и жестокости». «Итальянцы учили, - писал Г. Никольсон, -что международная справедливость должна быть всегда подчинена национальным выгодам, для этой цели были подобраны методы обмана, оппортунизма и вероломства» (курсив мой.-МЛ.) [21,с. 56-57].
В предисловии к этой работе, переведенной на русский язык и изданной в 1962 г., советский дипломат А. Е. Богомолов указывал на то, что Г. Никольсон был «возмущен методами обмана, двурушничества, крайней подозрительности итальянской дипломатии». Подобное поведение А. Е. Богомолов считал «типичным для раздробленности феодального строя и его дипломатии весьма мелкого масштаба», отмечал «мерзость феодальной дипломатии с ее обманом, предательством, нарушением клятв и убийствами, применявшимися по самым мелким и гнусным соображениям» [21,с. 12].
Оценивая роль исторических традиций в итальянской дипломатии, Г. Никольсон заметил, что итальянцы с помощью переговоров стремятся получить больше влияния, чем можно было бы добиться с помощью «физической» силы. Вместо того чтобы основывать дипломатию на силе, они основывают силу на дипломатии [22, с.219].
Г. Никольсон отмечал также, что для итальянских дипломатов характерен поиск лишь сиюминутной выгоды. На переговорах они любят выдвигать требование о какой-нибудь уступке, не рассчитывая ее получить и не особо нуждаясь в ней, но взамен другая страна будет вынуждена что-нибудь предложить. Если переговорам грозит тупик, то делается намек, что такие же переговоры могут быть начаты с другой страной. Иногда параллельные переговоры ведутся с обеими конфликтующими сторонами. В качестве примера Г. Никольсон приводит события Первой мировой войны, когда «Италия одновременно торговалась со своими союзниками и с их врагами относительно того, сколько первые заплатили бы за ее нейтралитет, а последние - за помощь с ее стороны. Последние оказались в состоянии предложить более высокую цену». Такое поведение он называл методами «малой державы», недостойными великой страны. Итальянская дипломатия изобретательна, но дает не самый лучший пример искусства переговоров, заключал Г. Никольсон [22, с. 220].
С такими оценками согласен словенский историк В. Шкорьянец. Он отмечает «расчетливость, непостоянство и ненадежность» итальянских дипломатов. По мнению исследователя, в Западной Европе сложилось мнение, что на Италию нельзя рассчитывать всерьез [23, с. 158]. Итальянские дипломаты, зная о принципе «договоры должны соблюдаться» (Pacta sunt servanda), помнят и другой: «измененные обстоятельства отменяют договор» (Rebus 81с stantibus). «В прошлом Италия, - пишет В. Шкорьянец, - умело использовала обстоятельства в своих интересах, правильно оценивая время и место переговоров, часто требуя их секретности, которой сама не придерживалась, что указывает на ее непоследовательность в договорах» [23, с. 162]. Историк разделяет мнение Г. Никольсона о том, что итальянский подход к переговорам предполагал «применение тактического маневра, передающего первоначальную заинтересованность, потом следовала временная пауза и отступление. Во время переговоров демонстрировалась осторожность и менялась цель» [23, с. 162].
-
В. Шкорьянец приводит высказывание об итальянской дипломатии премьер-министра Великобритании Герберта Г. Асквита. В своем частном письме в марте 1915 г. он отмечал, что британское правительство «дискутировало, как дешевле купить немедленную интервенцию Италии, этой самой прожорливой, скользкой и ненадежной страны» (курсив мой. -МЛ.) [23, с. 160].
Анализируя поведение итальянских дипломатов в XX в., В. Шкорьянец в целом указывает на то, что они хорошо знают международное право, умело используют просчеты и ошибки своих партнеров, поэтому на переговорах с итальянцами нужна осторожность.
Эксперты отмечают, что итальянцев пороками не удивить. Им присущ глубокий реализм в восприятии жизни, знание различий между видимостью и реальностью [24, р. 99]. Жители Апеннин весьма наблюдательны, хорошо понимают человеческую природу. У них нет идиллического представления о своей стране, отсутствует эпическое мнение о себе, как, например, у американцев или поляков. «Мы - не французы. Мы слишком саркастичны, чтобы произносить слово “величие” без улыбки», - отмечает Б. Северньини [11,р. 158, 189].
Иностранцы удивлены тем, что такая «ослепительная нация» кажется усталой и циничной [11, р. 208]. По внешнему виду трудно догадаться, что итальянцы считают себя неуверенными людьми, а у некоторых есть даже комплекс национальной неполноценности. Все это может запутать, сбить с толку сторонних наблюдателей [24, р. 99; 25, р. 222].
Итальянцам свойственен скептицизм и даже «сверхкритичность». По мнению Л. Бар-зини, они подозрительны к «идеальному и благородному», доверяют только «осязаемому и измеряемому» [5, р. 170, 174]. Известная итальянская сказка «Приключения Пиноккио» (1883 г.) предупреждает о том, чем может грозить наивность. Главный герой сказки, кукольный мальчик Пиноккио, поверил в то, что можно быстро разбогатеть, не прилагая при этом особых усилий. Такая доверчивость сделала его легкой добычей для Лисы и Кота, настоящих «жуликов-профессионалов» [1, с. 73, 222].
Причины недоверчивости итальянцев подробно раскрывает Л. Барзини. Он обращает внимание на сильную конкуренцию в Италии, которая «в каждой сфере является напряженной, безжалостной и постоянной». Страну часто сравнивают с «тарелкой супа, окруженной слишком большим количеством ложек». По мнению публициста, хорошие времена в Италии никогда не продолжались долго. Страх научил ее жителей идти по жизни так же осторожно, как опытные разведчики идут в лесу - оглядываясь вперед и назад, направо и налево, прислушиваясь к каждому шороху, ощупывая землю впереди в поиске скрытых ловушек [5, рр. 108-109]. Итальянцы хорошо знают старую поговорку: следует сохранять открытое выражение лица и закрытые мысли [5, р. 165]. Они полагают, что скрывать свои мысли - не опасно, в то время как раскрывать их чревато негативными последствиями [5, р. 223]. По тем же причинам фасады итальянских домов часто приветливы, но входные двери всегда крепко заперты. По мнению Л. Барзини, итальянцы знают, что мир - это уродливое и безжалостное место, и стараются следовать императиву: не дай себя одурачить. Быть fesso (дурак) - величайший позор, поскольку доверчивость - непростительный грех [5, рр. 165-166]. Поэтому итальянцы подозрительно относятся ко всему, что выглядит «честным, не от мира сего, рыцарским и благородным». В таком поведении проявляется их осторожность [5, р. 170].
Описанное Л. Барзини итальянское отношение к жизни во многом совпадает с рассуждениями Н. Макиавелли. Называя нравственные идеалы, к которым обычно призывают стремиться политиков и дипломатов, мыслитель делал вывод: «...государю нет необходимости обладать всеми названными добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть обладающим ими. Дерзну прибавить, что обладать этими добродетелями и неуклонно им следовать вредно, тогда как выглядеть обладающим ими - полезно. ...Надо являться в глазах людей сострадательным, верным слову, милостивым, искренним, благочестивым - и быть таковым в самом деле, но внутренне надо сохранять готовность проявить и противоположные качества, если это окажется необходимо. ...Ради сохранения государства он [правитель] часто бывает вынужден идти против своего слова, против милосердия, доброты и благочестия. ...То есть... по возможности не удаляться от добра, но и при надобности не чураться и зла. <...> Пусть тем, кто видит его и слышит, он предстанет как само милосердие, верность, прямодушие, человечность и благочестие, особенно благочестие. Ибо люди большей частью су- дят по виду, так как увидеть дано всем, а потрогать руками - немногим. Каждый знает, каков ты с виду, немногим известно, каков ты на самом деле... О действиях всех людей... заключают по результату, поэтому пусть государи стараются сохранить власть и одержать победу. Какие бы средства для этого не употребить, их всегда сочтут достойными и одобрят, ибо чернь прельщается видимостью и успехом...» [17, с. 215-216]. По мнению К. М. Долгова, флорентийский мыслитель хорошо знал, что под маской доброты и внешней красоты часто может скрываться жестокость и коварство [19,с. 198].
Л. Барзини отмечает, что у итальянских новелл читатель учится защищать себя от обмана, вероломства, высокомерия и хитрости, извлекать выгоду из слабости людей, видеть насквозь их лицемерие, а также наслаждаться приятными моментами в жизни. Жестокие и безжалостные обычаи этого мира принимаются как неизменные. В итальянских новеллах легковерные и наивные подвергаются насмешкам, а умные и сильные всегда выходят на первое место, вызывая восхищение и одобрение автора и читателя. Правда, Л. Барзини признает, что в XVIII и XIX вв. итальянские писатели стали уделять значительное внимание «более достойным вещам». В частности, они писали о том, что итальянский народ может исправить свои недостатки и работать над улучшением своего морального и материального положения. Поэты и романисты превозносили духовные ценности, религиозную веру, благородные идеалы, восхваляли патриотизм, силу характера, мужество и честность, справедливость и правду. Однако потом итальянцы начали обнаруживать, что они - такие же, какими были всегда. На первое место вновь стали выходить подозрительность к «идеальному и благородному» и «старый страх быть выставленным дураком» [5, рр. 172-174]. Итальянцы проявляют настороженность к благородным намерениям других людей и всегда ищут конкретные мотивы, которые могут за этим скрываться [5, р. 191]. В Италии люди не могут позволить себе заниматься самообманом. Необходимо осознавать реальные законы жизни [5, рр. 177-178].
Л. Барзини считает также, что итальянцы были невосприимчивы ко многим идеалам средневековой Европы. К таковым относились преданность своему суверену, принцип «честь обязывает» (noblesse oblige), чувство долга по отношению к зависимым, подчиненным, слабым и беззащитным [5, р. 182]. Итальянцы предпочитают оценивать реальное соотношение сил, сражаться с более слабым врагом и присоединяться к победителю. При заключении сделки они смотрят друг другу в глаза, стараясь увидеть признаки твердого решения или, наоборот, скрытой робости партнера. Ту же информацию пытаются уловить в его голосе или выборе слов [5, р. 188].
По мнению Л. Барзини, итальянцы следуют правилу: иметь как можно больше полезных друзей и как можно меньше опасных врагов, совершенствоваться в искусстве быть услужливым и симпатичным. Необходимо всегда быть бдительным, присоединяться к сильным, «плыть с надежным конвоем». Нельзя быть слишком смелым, уверенным в себе, откровенным, доверчивым и легковерным [5, рр. 226-227]. Итальянцы умело использовали лесть, двусмысленность, уклончивость, прибегали ко лжи, чтобы понравиться, дополнить картину, вызвать эмоции, доказать свою точку зрения [5, р. 326, 328]. Вежливая ложь и лесть призваны сделать жизнь благопристойной и приятной, служить своего рода «смазочным материалом» для сглаживания отношений между людьми [5, р. 77]. Кроме того, как полагает Л. Барзини, ложь может быть оправдана с моральной точки зрения, как и «гуманные выдумки», которые рассказывают умирающему, чтобы ввести в заблуждение его лично и его родственников [5, р. 328]. Итальянцы изобрели уловки, чтобы победить скуку, забыть позор и несчастья, усыпить тоску и утешить себя в одиночестве. В трудные времена они успокаивают себя мыслью о том, что дым рассеется и Италия восстанет, как феникс из пепла. Упорство и рвение, с которыми человек преследует свои личные интересы и защищает себя от общества, его недоверие к благородным идеалам и побуждениям, великолепные зрелища, всепроникающее снисхождение к человеческим слабостям делают итальянскую жизнь приятной и сносной [5, рр. 338-339].
Характерные черты деловой коммуникации итальянцев
Как уже отмечалось, итальянцы высоко ценят хорошие личные отношения. Они внимательно изучают своих партнеров, «много времени тратят на то, чтобы вглядываться в скрытое под масками и фасадами» [1, с. 85]. Полная перипетий история Апеннин и «хитрые» соотечественники приучили их к осторожности [1,с. 220].
Для итальянца важно узнать другого человека как личность, чтобы понять, заслуживает ли он доверия [8]. Жители Италии предпочитают вести дела только с теми, кого они знают и кто им импонирует. Итальянцы будут вести серьезные переговоры лишь в том случае, если почувствуют себя комфортно в общении с партнером, и с недоверием относятся к тем, кто не хочет тратить время на построение отношений или чьи мотивы недостаточно ясны [26].
В итальянской деловой культуре ценятся такие качества, как позитивный настрой, вежливость, настойчивость (но не высокомерие), уравновешенность, личная теплота и общительность [26]. Если вы войдете в «круг» доверия, то можете рассчитывать на защиту и поддержку. Решение бюрократических вопросов, прохождение многочисленных процедур согласований ускорится за счет доступа к «сети» родственников, друзей и знакомых ваших партнеров [8].
Известный специалист по межкультурной коммуникации Л. Кац отмечает, что во время первой встречи итальянцы могут не раскрывать свои карты. Следует готовиться к долгим переговорам, проявлять терпение и контролировать свои эмоции. Попытки ускорить переговоры или оказать давление на процесс принятия решений могут быть восприняты как оскорбление [26].
Итальянцы не любят рисковать, боятся «искушать судьбу». Если вы хотите, чтобы они поддержали рискованное предложение, то нужно объяснить им план действий на случай непредвиденных обстоятельств, обговорить гарантии и меры поддержки [26].
Итальянские переговорщики привыкли вести жесткий торг. Они могут проявлять сильные эмоции, демонстрировать лесть, драматизм, жаловаться, но не допускают открытую агрессию. Уступки со стороны итальянских партнеров могут достигать сорока и более процентов по сравнению с первоначальным предложением. Если вы делаете уступку, то попросите их ответить взаимностью [26].
Запись итогов встречи и обмен соответствующими документами могут служить эффективным способом проверки понимания достигнутых договоренностей и взятых обязательств. Многие итальянцы ожидают, что устные договоренности будут выполняться, однако на них самих нельзя полностью положиться [26]. В. И. Попов отмечает, что некоторые итальянские дипломаты, «обещая что-либо, не всегда сдерживают свое слово» [13, с. 273].
Дж. Хупер обращает внимание, что в Италии повсюду чувствуется сопротивление необходимости отвечать за свои действия [1, с. 299]. «Мы ожидаем, что нас простят. Понятие “наказание” не очень-то по-итальянски», - признает Б. Северньини [11,р. 197].
Итальянцы довольно многословны, красноречивы, любят говорить замысловато, как бы вышивкой, арабесками. Простота и краткость выражений может сойти за поверхностность [11, рр. 182-183]. Жители южных регионов часто говорят громко и страстно, дискуссии могут быть жаркими и эмоциональными. В таких дебатах важно никогда не выходить из себя и не проявлять нетерпение, так как всегда есть риск задеть чью-то гордость, самолюбие [26].
«Южане» обычно разговаривают на близком расстоянии, не более 50-60 см друг от друга. Не рекомендуется увеличивать дистанцию при разговоре, так как это может быть воспринято негативно. «Северяне» тоже ценят оживленные дискуссии, но встречи проходят в более спокойной обстановке. Важно также учесть, что молчание со стороны итальянцев встречается редко и может иметь негативный смысл, сигнализировать о наличии проблемы или отклонении предложения [26].
Итальянцы могут перебивать друг друга. Они исходят из того, что «хотя у вас есть слово, тем не менее я позволяю себе вмешиваться, дополнять, исправлять, поддерживать то, что вы говорите». Перебивая говорящего вопросами, итальянцы таким образом демонстрируют внимание и заинтересованность [9; 10]. Поэтому допустимо прерывать собеседника, чтобы привлечь к себе внимание и убедиться, что вашу точку зрения услышали [2, р. 7].
Речь итальянцев сопровождается активной жестикуляцией, которая придает словам особые оттенки и смыслы. Часто бывает так, что они выражают себя только жестами. «Этот язык жестов создан, чтобы оживлять и поддерживать беседу, красноречиво и образно “звучать” там, где слова бессильны», - замечал советский дипломат Н. И. Тимофеев [3, с. 305]. В Италии одним жестом руки можно передать смысл целого предложения.
Нормальным считается физическое прикосновение во время разговора. Собеседник может касаться плеча или руки партнера, чтобы подчеркнуть важность сказанного или привлечь к себе внимание [8].
Как уже отмечалось, на протяжении всей беседы итальянцы смотрят друг другу в глаза. Частый зрительный контакт свидетельствует об искренности и помогает укрепить доверие. Если же вы избегаете взгляда собеседника, то это может означать, что вам есть что скрывать. Гнев и недоверие могут быть замаскированы улыбкой, благожелательным отношением [26; 24, р. 99]. Маски, театральность играют большую роль в этой культуре. Поэтому чтение выражений лица - важная наука в Италии.
Жители Апеннин внимательно изучают одежду, стиль и вкусы партнера. По их мнению, информация такого рода дает возможность лучше узнать человека. В целом итальянцы полагают, что насыщенная невербальная коммуникация усиливает «сигнальный» эффект и способствует развитию отношений. Стиль общения, лишенный невербальных проявлений, кажется им «деревянным», отстраненным и дезориентирующим [10].
Организованность и пунктуальность не считаются обязательными качествами. «Так что если вас не встретили по приезде в эту страну, не расстраивайтесь: это не означает неуважение, а просто проявление неорганизованности», - пишет Е. В. Мельникова [14, с. 159]. Однако сами итальянцы обычно ожидают, что иностранные гости будут приходить вовремя. Поэтому рекомендуется не опаздывать более чем на 10-15 минут и звонить заранее, если вы задержитесь [26].
Повестка дня переговоров составляется редко. Если она все-таки есть, то она не является подробной [8]. Кроме того, как полагает Л. Кац, скорее всего она не будет соблюдаться [26]. Партнеры, которые строго придерживаются правил, не будут иметь успеха в общении с итальянцами. Если, например, немцы придерживаются согласованной повестки дня и последовательно прорабатывают один вопрос за другим, то в Италии повестка дня имеет такое же значение, как, например, меню в ресторане. Приятно, что у гостей есть возможность ознакомиться с ним, но всегда хочется узнать, что лучше заказать именно сегодня [10].
В ходе переговоров итальянцы любят выдвигать идеи, ценят креативность, творчески подходят к разрешению конфликтов, изобретательны в поиске компромиссов, охотно обсуждают вопросы «с глазу на глаз» [27; 28, с. 122].
Заключение
В общении с итальянцами необходимо учитывать разные аспекты их национальной культуры. Во-первых, большое внимание уделяется вежливости, хорошим манерам, уважению к собеседнику, умению поддерживать общение. Итальянцы убеждены, что человек должен вести себя достойно даже в самых трудных ситуациях. Элегантный внешний вид тоже будет высоко оценен и окажет положительное влияние на переговоры. В целом «внешней» стороне общения итальянцы придают большое значение.
Во-вторых, следует помнить, что итальянцы - трудные партнеры. Они недоверчивы, долго присматриваются к людям, внимательно их изучают, прежде чем установить деловые отношения. С итальянцами нелегко вести переговоры, договариваться, рассчитывать на их надежность, ответственное отношение к выполнению обязательств. Среди экспертов часто высказываются критические оценки итальянцев как деловых партнеров.
Необходимо учитывать также особую ранимость, чувствительность итальянцев к критике. В целом их непростой характер обусловлен историей Италии, которая знала много трагических моментов. Пережитые потрясения научили итальянцев реализму, критическому отношению к людям, поведение которых может быть недружественным и крайне опасным. Исторический опыт убедил их в том, что в жизни есть много обмана, для достижения успеха люди могут использовать аморальные средства. Поэтому итальянцам свойственны недоверчивость, стремление распознать истинную сущность человека, которая может скрываться за маской приветливости и благожелательности.
Итальянцам присущ как глубокий реализм, так и стремление к прекрасному. Они убеждены в том, что можно смягчить конфликты, что-то исправить к лучшему, облагородить, «приручить и приукрасить дикую природу», сделать жизнь достойной, значимой и приятной как для других, так и для самих себя [5, p. 99].
Список литературы «Непредсказуемая Аркадия»: особенности дипломатической и деловой культуры итальянцев
- Хупер Д. Итальянцы. М. : Альпина нон-фикшн, 2016.
- Jones T. The Dark Heart of Italy. London : Faber and Faber, 2003.
- Советские писатели об Италии. Л. : Лениздат, 1986.
- Мешков А. Российско-итальянское культурное сотрудничество: история и современность // Международная жизнь. 2011. № 8. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/510 (дата обращения: 20.04.2023).
- Barzini L. The Italians. New York : Atheneum, 1965.
- Solly M. The Xenophobe’s Guide to The Italians. Ravette Publishing, 1995.
- Kappelin K. Berlusconi: italienaren. Stockholm : Brombergs Bokförlag, 2010.
- Interkulturelle Besonderheiten für Italien // Sprachenmarkt.de : site. URL: https://www.sprachenmarkt.de/fileadmin/sprachenmarkt/interk_Vorbereitung_images/Interkulturelle_Besonderheiten_fuer_Italien.pdf (дата обращения: 17.04.2023).
- Koll Prakoonwit K. Kommunikation in Italien // crossculture academy : site. URL: https://crossculture-academy.com/kommunikation-in-italien/ (дата обращения: 15.04.2023).
- Müller S., Laraia E. Business-Etikette: Zusammenarbeit von Deutschen und Italienern // business-wissen.de : site. URL: https://www.business-wissen.de/artikel/business-etikette-zusammenarbeit-von-deutschen-und-italienern/ (дата обращения: 10.07.2023).
- Severgnini B. La Bella Figura: A Field Guide to the Italian Mind. New York : Broadway Books, 2006.
- Герцен А. И. Собрание сочинений : В 30 т. Т. 5: Письма из Франции и Италии. 1847–1852. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1955.
- Попов В. И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия – наука и искусство. М. : Междунар. отношения, 2003.
- Мельникова Е. В. Культура и традиции народов мира (этнопсихологический аспект). М. : Диалог культур, 2006.
- Prezzolini G. L’italiano inutile. Rusconi, 1983.
- Категории политической науки. М. : Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) ; РОССПЭН, 2002.
- Макиавелли Н. Государь. М. : РИПОЛ классик, 2017.
- Власть факта. Макиавелли: политика и мораль // Россия-Культура : телеканал, 5 окт. 2022 г. Время воспроизведения: 00:00:00-00:39:00. URL: https://smotrim.ru/video/2489025 (дата обращения: 05.07.2023).
- Долгов К. М. Гуманизм, Возрождение и политическая философия Никколо Макиавелли. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017.
- Юсим М. Франческо Гвиччардини – историк Итальянских войн // Гвиччардини Ф. История Италии : В 2 т. Пер. с итал. и подготовка изд. М. А. Юсима. Т. 2. М. : Канон-Плюс, 2019. С. 579–633.
- Никольсон Г. Дипломатическое искусство: четыре лекции по истории дипломатии. Пер. с англ. и комментарии С. А. Богомолова ; вступ. статья и общая ред. А. Е. Богомолова. М. : Изд-во Ин-та междунар. отношений, 1962.
- Никольсон Г. Дипломатия. М. : Гос. изд-во полит. лит., 1941.
- Шкорьянец В. Итальянская дипломатическая традиция сквозь призму истории // Исторический вестник университетов Любляны и Перми. 2008. Вып. 2. С. 156–165.
- Italian Neighbors: or A Lapsed Anglo-Saxon in Verona by Tim Parks. New York, Grove Weidenfeld, 1992. 275 p. Review by J. P. Russo // Italian Americana. 1993. Vol. 12. No. 1. Pp. 97–101.
- Varsori A. Great Britain and Italy 1945–56: The Partnership Between a Great Power and a Minor Power? // Diplomacy & Statecraft. 1992. Vol. 3. Iss. 2. Pp. 188–228.
- Katz L. Negotiating International Business – Italy // Leadership Crossroads : site. URL: http://www.leadershipcrossroads.com/mat/cou/Italy.pdf (дата обращения: 20.04.2023).
- Koll Prakoonwit K. Italienische Meetingkultur // crossculture academy : site. URL: https://crossculture-academy.com/italienische-meetingkultur/ (дата обращения: 15.03.2023).
- Дубинин Ю. В. Мастерство переговоров. М. : Междунар. отношения, 2012.