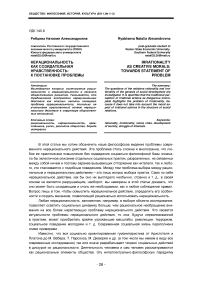Нерациональность как созидательная нравственность: к постановке проблемы
Автор: Рябцева Наталия Александровна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1-2, 2011 года.
Бесплатный доступ
Исследуются вопросы соотношения рациональности и нерациональности в генезисе общественного развития. Указывается, что традиционное восприятие нерациональных действий как опасных неполно освещает проблему иррациональности, поскольку не учитывает нравственный аспект нерационального действия в структуре общественных отношений.
Рациональность, нерациональность, нравственное, риски, развитие общества, борьба интересов
Короткий адрес: https://sciup.org/14940443
IDR: 14940443 | УДК: 140.8
Текст научной статьи Нерациональность как созидательная нравственность: к постановке проблемы
В этой статье мы хотим обозначить наше философское видение проблемы современного нерационального действия. Эта проблема столь сложна и многогранна, что любое ее практическое осмысление без подведения социально-философской базы означало бы эклектичное описание отдельных социальных практик, разрозненных, не связанных между собой ничем и поэтому заранее вызывающих отторжение как читателя, так и любого, кто сталкивается с подобным поведением. Между тем проблема выбора между рациональным и нерациональным действием – это лишь вопрос выбора практик. Само по себе нерациональное действие, как бы оно ни выглядело необычно, странно и т. д., в своей основе не является разрушающим, наоборот, мы намерены в этой статье доказать, что оно может быть созидающим и столь же необходимым, как и любое соблюдение правил. Вопрос лишь в том, чтобы осмыслить нерациональное действие, определить его особенности и создать механизм, позволяющий рационально использовать нерациональность.
Любая нерациональность, заложенная, например, в выборе объекта исследования, позволяет осветить социальную динамику больше, чем рациональное необращение внимания на все более нарастающую проблему нерационального действия. Что касается актуальности проблемы нерационального действия, то она, будучи нереализованной в практике, может приобретать крайне угрожающие масштабы: революции, терроризм, социальное поведение молодежи и т. д. Современная социальная жизнь переполнена этими примерами.
Известно, что вся социально ориентированная гуманитаристика от Аристотеля и Платона до М. Вебера, Т. Парсонса, М. Дюверже и др. (в том числе мы имеем в виду все современные исследования) так или иначе разрабатывает теорию социальных действий в дискурсе их рациональности. Деятельность человека и сам человек рассматриваются как рациональные элементы общества. Эту интеллектуально-философскую парадигму мы наблюдаем как в работах Аристотеля, так и в самых современных работах по философии, социальной философии и вытекающих из них отраслевых дисциплинах – педагогике, социологии, политологии и тем более в юриспруденции (ее мы понимаем широко – как весь комплекс юридических отраслевых дисциплин).
Но что понимается под рациональностью? Какие социальные критерии и ориентиры обусловливают эту рациональность? Все исследования социальной жизни, рассматривающие те или другие аспекты общества, человека, социального взаимодействия, в некотором смысле основаны на едином фундаменте государственно-организованного общества, разделении труда, частном интересе как способе и идеологии удовлетворения противоречия между бесконечностью потребностей и ограниченностью возможностей. Любое социальное действие рассматривается в аспекте удовлетворения индивидом потребностей за счет его индивидуализма, что ведет к идее о системности социального действия, о наличии свода писаных и неписаных правил, юридических и моральных норм, которые обеспечивают, в чем-то даже ограничивая свободу, не только выживание, но и развитие общества в целом.
Эта идея не нова. Известно, что индивидуалистическая парадигма как основа современного рационального действия предполагает государство, общество и т. п., чьей основной задачей является гарантирование, взамен следования правилам.
Это было бы прекрасно и структурно безупречно, если бы не одно обстоятельство: государство и общество и правила, которые они создают, не есть идеальная платоновская машина. «Государство – это я», – заявлял Людовик XIV и был прав. Государство и общество – это совокупность человеческих функций, отделенных от самой личности. В идеале, по Гегелю это абсолютный дух, по Канту – нравственное в форме нравственного. Но именно человеческая основа не позволяет социальным правилам рационального действия быть абсолютно нравственными. Их абсолютная нравственность всегда, в перспективе предельного вопрошания, превращается в свою противоположность – абсолютную безнравственность как только возникает отделенный от общества и государства интерес отдельной личности.
Невозможность идеального нравственного превращает любую систему социальных действий в рациональную, но нравственную лишь условно. Эта условность сопряжена с двумя факторами: во-первых, с фактором противоречия между нравственным для субъекта и безнравственным для объекта, во-вторых, она сопряжена с противоречием между идеальностью системы с точки зрения ее целевого предназначения и реальной борьбой интересов на практике. Эта борьба объективна, она есть следствие того, что и государство, и общество, и предлагаемая система рациональных действий связаны не с идеальной платоновской концепцией, не с идеальным кантовским видением, а с реальной борьбой воль тех индивидов, чье функциональное назначение – быть частью государственной машины, формировать идеологию, политику, экономику и т. д.
Мы даже не пытаемся рассмотреть вопрос о том, что формирует системы рационального действия. Это сделано до нас Т. Парсонсом, М. Вебером, М. Дюверже, М. Фуко и т. д. Мы лишь ставим вопрос о том, является ли то действие, которое мы называем рациональным, таковым в действительности? Действительностью при этом мы называем сложное, институционально разветвленное и институционально интегрированное современное общество. Концепт рационального, каким мы его знаем, так или иначе опирается на идеальные представления. Идеальные настолько, что рациональность изначально объективно правильна. Но мы показали, что это не так. Поскольку сама природа социальных систем есть не нравственное, а борьба интересов, которая не может быть нравственной изначально.
Любая рациональность в своем идеальном выражении подразумевает определенное благо, но благо универсальное, благо для всех. Иначе такая рациональность безнравственна. И безнравственной она становится, если благо перестает быть благом хотя бы для одного. Это значит, что система, обеспечивающая рациональность, должна быть столь усредненной, чтобы это благо было общим. И это, в принципе, сводит любое развитие на нет. А теперь, если мы посмотрим ретроспективно, то мы увидим, что все развитие являлось следствием нерациональных действий: от первого камня в руке протообезьяны до нелогичного и неразумного соединения двух компьютеров в одну сеть. Эти действия нерациональны. В момент их совершения блага не очевидны. Они – лишь в перспективе. Это есть риски, а риски – не что иное, как нерациональное действие. Риск – это сознательное стремление к благу через неблаго. И это нарушает нравственную картину рациональности действия как такового.
Нерациональность и рациональность социального действия рука об руку формируют тот мир, в котором мы есть. Не позволяя ему становиться абсолютно нравственным, но потерявшим развитие или, наоборот, безнравственно динамично развиваться. Это всегда вопрос меры. Меры того, что безнравственного может себе позволить нравственность, не теряя своей сути. Меры того, что нерационального может позволить себе идеал, не утрачивая своего морального концепта.
Конечно, эти философские подходы лишь обозначают проблему, которая одновременно затрагивает такие важные вопросы, как структура неформальных действий, их особенности, цель и соотношение с рациональным действием, соотношение рисков и перспектив. Но, будучи неотъемлемым элементом социальной жизни, нерациональное действие является столь же имманентным и обществу, и человеку, сколь имманентными являются социальные практики риска и общественные практики приобретения нового блага и вообще развития.
Сегодня мы знаем лишь одну структуру, позволяющую рационально использовать нерациональность. Это структура современного капиталистического общества, в котором риск и вознаграждение – неотъемлемые элементы социальной жизни. Эта возможность рационально поглощать нерациональные действия, использовать их результаты породила целую культуру, нравственные идеалы которой сегодня доминируют.
Но что делать, например, российскому обществу, нравственные идеалы которого отличны от духа протестантской этики так же, как философия общинности отлична от либеральной индивидуалистической философии Запада? Какой социальный механизм должен быть использован для нравственного превращения нерационального действия в общественное благо и каковы должны быть допустимые параметры нерационального действия с тем, чтобы не разрушать сложившуюся веками экономическую, политическую, социальную и духовную идентичность российского общества? В какую сторону должно быть канализировано нерациональное действие, если единственно известная форма его канализации «риск – вознаграждение» неприемлема в российской ментальности и социальной практике?
Нельзя в одной статье дать исчерпывающий ответ на эти вопросы. Но и нельзя сказать, что статья не содержит ответов. Тот социально-философский концепт, который был нами рассмотрен, позволяет указать основные направления рационального поглощения нерационального действия. Во-первых, поглощение происходит тогда, когда нерациональное действие имеет нравственное обоснование. Более того, мы берем на себя смелость утверждать, что нерациональное действие, будучи нравственно обоснованным, утрачивает признак иррациональности. Во-вторых, нерациональное действие должно быть поощряемым, когда его конечной целью является всеобщее благо в противовес не- рациональному действию, целью которого является личное благо. В-третьих, нерациональное действие является социально-необходимым, когда оно подталкивает общество и государство к восстановлению новой системы интересов, в основе которой лежат более строгие моральные критерии.
Безусловно, это лишь самые общие ориентиры, они требуют эмпирической проверки, но и проверка без этих ориентиров утрачивает смысл, поскольку для проверки не предложен ни какой иной критерий, кроме предложенного нами.