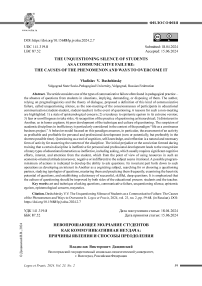Невопрошающее молчание студентов как коммуникативная неудача: причины явления и способы преодоления
Автор: Дащинский В.В.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается один из видов коммуникативной неудачи, часто встречаемый в педагогической практике, - отсутствие вопросов со стороны студентов в ситуациях, их подразумевающих, требующих или располагающих к ним. Автором с опорой на прагмалингвистику и теорию диалога предложено определение подобного рода коммуникативной неудачи, названной невопрошающим молчанием, понимаемое как невстреча сознаний участников образовательной коммуникации (студент - студент, студент - преподаватель) в событии вопрошания. Выделены шесть причин такой невстречи: 1) состояние гносеологической неозабоченности; 2) склонность к эпистемическому эгоизму в его крайней версии; 3) боязнь или нежелание рисковать; 4) признание практики вопрошания иерархичной; 5) незаинтересованность в Другом как в homo cogitans; 6) слабое владение техникой и культурой вопрошания. Особо рассматривается возможная неэффективность учебных дисциплин в контексте парадигмы «жизнь как непрерывный бизнес-проект». Модель поведения, ориентированная на данную парадигму, предполагает, в частности, оценку той или иной деятельности как выгодной и прибыльной для личностного и профессионального развития (сейчас или потенциально, но желательно в кратчайшие сроки). Вопрошание как инструмент познания, самопознания и рефлексии есть естественная и необходимая форма активности по освоению содержания дисциплины. Изначально имеющаяся предубежденность или сформировавшаяся в ходе обучения убежденность в том, что определенная дисциплина неэффективна для личностного и профессионального развития, приводит к признанию неэффективными многих видов учебного взаимодействия, в числе которых находится и спрашивание, обычно требующее от учащегося значительных когнитивных усилий, заинтересованности и внимания, что с точки зрения применения ресурсов в условиях такого экономико-ориентированного отношения (к тому же отрицательного или безразличного) к предмету кажется делом нерациональным. Указывается возможная программа-минимум действий по развитию умения задавать вопросы. Ее инвариантная часть сводится к таким операциям, как развитие в себе интереса к Другому как к познающему субъекту, поиск / выбор напарника по вопрошанию, изучение типологий вопросов, их освоение и частое практикование, экспертиза эвристического потенциала вопросов, заведение словаря удачных, искусных, глубоких вопросов. Подчеркивается, что культуру вопрошания следует повышать обеим сторонам образовательного процесса: студенту и преподавателю.
Искусство и техника задавать вопросы, коммуникативная неудача, невопрошающее молчание, эпистемический эгоизм, гносеологическая озабоченность, майевтика
Короткий адрес: https://sciup.org/149146835
IDR: 149146835 | УДК: 141.319.8 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.2.7
Текст научной статьи Невопрошающее молчание студентов как коммуникативная неудача: причины явления и способы преодоления
DOI:
Цитирование. Дащинский В. В. Невопрошающее молчание студентов как коммуникативная неудача: причины явления и способы преодоления // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 2. – С. 59–68. – DOI:
Существует много красивых, справедливых и верных цитат о роли вопросов в познании и самопознании, одно обращение к которым уже способно мотивировать на овладение этим когнитивным инструментом и его использование. Иногда описание учеными потенциала вопросов (прагматического, тактического, исследовательского и т. д.) напоминает рекламирование какого-то продукта, дающего возможность интеллектуально «прокачаться». Такое впечатление оставляют многие работы, посвященные методу сократического диалога. Не говорим уже о том, что практикующими психологами и философами сократовская майевтика успешно монетизируется. Справедливо и актуально мнение М.Д. Гетмановой и Л.В. Щегловой о том, что «сегодня можно найти много информации по так называемой “технике сократического диалога”, но это только фальсификат того, что на самом деле можно считать сократическим диалогом» [Гетманова, Щеглова 2015, 140].
Немало представлено и приемов по освоению правильного и эффективного спрашивания, причем не только в научной литературе. В Сети распространены материалы, постулирующие ценность вопрошания, в частности, советы, как задавать правильные, хорошие и эффективные вопросы: техника «Шквал вопросов» Хэла Грегерсена, техника «воронка вопросов», упражнения О. Бренифье (взаимное вопрошание, вопросы к вопросу) и др. Природа вопроса и вопрошания, таким образом, уже давно не находится на периферии исследовательского и повседневного интереса, где она оставалась до второй половины XIX в. [Петросян 2012, 23], но каждый учитель, преподаватель, лектор все чаще сталкивается с ситуацией, где ответом на предложение задать вопросы ему либо кому-то из присутствующих в аудитории является молчание. Бывает даже сложно добиться признания от аудитории, что вопросов нет, а если и есть, то она испытывает затруднения с их формулированием или предъявлением. С другой стороны, любому ученику и студенту знакомы просьбы не задавать вопросы к докладу, презентации или ситуации с заранее оговоренными вопросами (вопрошание понарошку); желание же выступающего услышать вопросы будет оценено, скорее, как маргинальное.
Молчание студента на практических и лекционных занятиях в ситуациях, когда от него ожидаются вопросы, свидетельствующее о том, что сознание студента не погружается в вопрошающий контекст, не «заражается» сократовским духом вопрошания, нужно расценивать как коммуникативную неудачу. Таким образом диагностироваться молчание и нежелание спрашивать, участвовать в «дискурсе вопрошания» (термин Л.Б. Балашовой-Кукановой [Балашова-Куканова 2009, 94]) должно и студентом, и преподавателем.
Совместив прагмалингвистическое понимание понятия «коммуникативная неудача» с диалогическими концепциями (М. Бубер, М.М. Бахтин, В.С. Библер и др.), можно определить его применительно к такого рода ситуациям как невстречу сознаний участников образовательной коммуникации (студент – студент, студент – преподаватель) в событии вопрошания. Иллокутивное намерение говорящего (желание услышать вопросы) здесь расходится с намерением слушающих (желание отмолчаться). Определяющей причиной подобной коммуникативной неудачи является «человеческий» фактор. Мы делаем акцент именно на полном или преимущественном отсутствии вопросов со стороны учащегося, а не мнений или аргументированных суждений, то есть говорим о невопрошающем молчании, отделяя этот вид от других видов молчания, некоторые из которых обладают дидактическим, этическим и культурологическим потенциалом и рассматриваются учеными и педагогами как коммуникативно значимые.
Таким образом, изучение причин отсутствия вопросов в требующих вопрошающей инициативности (приветствующих ее) ситуациях и предложение способов «настройки» себя на модус задавания вопросов являются целью настоящей работы. Приведем примеры ситуаций, требующих или предполагающих проявление вопрошающей инициативности:
а) студент выступил на занятии с информационной / убеждающей / иной речью, преподаватель просит задать выступающему вопросы; б) преподаватель прочитал лекцию (или продемонстрировал видеоматериал) и просит задать какие-либо вопросы по содержанию или до начала занятия дает установку на спрашивание в случае, если будет что-то неясно в ходе изложения; в) на семинаре развернулась задуманная или разгорелась спонтанная дискуссия, естественная часть которой – вопросы участников друг другу; г) преподаватель дает упражнения на тренировку умения задавать вопросы.
Причины, по которым учащиеся молчат, не задают собственных вопросов или заняты этим в малой степени, отчуждены от подобной деятельности, не вступают в диалог были неоднократно описаны в философской и психолого-педагогической литературе [Kurzon 1998; Reda 2009; Роботова, 2015; Розин, 2016; Данилова, Елизарова, Карастелев 2020]. Незаинтересованность в практике вопрошания может объясняться особенностями системы отечественного общего и высшего образования; поколенческими особенностями студентов (поколение «Z» и др.); снижением навыков устной речи; отчуждением, одиночеством и безразличием как «симптомами смертельной болезни коммуникации, угрожающей существованию вообще» [Гоноцкая 2013, 69]; широко распространившейся депрессией как следствием насаждения императивов наслаждения и счастья [Кель 2021]; «тепловой смертью чувств» или «бегом наперегонки с самим собой» [Лоренц 1998, 16–26], который в условиях «текучей современности» оборачивается такой добродетелью, как эффективность (так что неэффективность превращается в «смертный грех»). Как связан «грех неэффективности» и преимущественно невопрошающее молчание студентов? В некоторых вопросах (хотя и редко задаваемых студентами публично) прослеживается претензия к низкой эффективности предлагаемых дисциплин, модулей, тем, видов работ. Такая претензия зачастую оформляется еще до встречи с учебным предметом. Это вопросы, произносимые часто с недоумевающей или возмущенной интонацией: зачем мне нужен этот курс? почему я должен это учить? как это связано с моей основной специальностью? как изучение этой темы поможет мне в дальнейшем? что мне даст эта дисциплина, если я собираюсь стать тем-то? Бывает так, что в этих вопросах нет вопрошания, а явлены то ли дух отрицания, вызова системе, то ли маскирующаяся вопросами лень, то ли просто ламентация, вызванная плохим настроением, возрастным кризисом или жизненными трудностями. Преподаватель не должен стремиться отвечать на них, тем более использовать речевые клише вроде «для общего развития» (эта фраза ушла в мемный фонд современного поколения). Приведение формулировок из образовательных программ (утрированный случай), разговоры о межпредметности дисциплин, парадигмальности современной науки и т. д. не покажутся студентам убедительными.
Это естественные, правильные, здравомысленные, необходимые и во многом экзистенциальные вопросы, но они теряют свой эвристический потенциал, когда их задают исходя из представления о жизни как о непрерывном бизнес-проекте (уместно воспользоваться игровой метафорой – «билдострое-ние», которая хорошо и точно описывает сообщество RPG-геймеров, разделяющее данное представление и пытающееся его воплотить; одно из значений слова билд – ‘конструирование из сочетания определенных вещей, характеристик, умений и навыков такого персонажа, который будет отличаться наибольшей эффективностью на всем протяжении игры или в определенных ситуациях, например, в сражении с тем или иным боссом’). «Интерпретация человеческой жизни как частного бизнес-проекта, ставшая для развитых капиталистических обществ основной антропологической моделью и траекторией производства субъективности, задает рамку для превращения всего, что происходит в персональном существовании человека, в капитал и прибыльное предприятие» [Соловьев, Кудряшов web].
Если не удается, не видится или не представляется возможным конвертировать освоение образовательного контента в выгодные умения и навыки, то практически единственным решением с точки зрения пользы для модели «жизнь как непрерывный бизнес-проект» становится минимизация активности, в том числе и задавания вопросов. Даже в условиях заинтересованности учебным курсом вопрошание само по себе есть деятельность, требующая немалых умственных усилий, поэтому она может показаться «убыточной» в случае признания того, что конкретная учебная дисциплина, ее отдельные тематические блоки и связанные с ней задания не способствуют повышению каких-то количественных показателей, не увеличивает личностный и профессиональный капитал. Таким образом, общее отношение к предмету (отрицательное или равнодушное) переносится и на многие формы взаимодействия по его освоению, одной из которых является спрашивание. Создавать видимость обучения легче через ответы, нежели через вопросы. Выражать недовольство и подозревать образовательную дисциплину в неэффективности проще с помощью приведенных вопросов, чем при помощи аргументированных высказываний. Есть стойкая традиция задавать подобные вопросы, но традиция искать ответы на них, а не выбирать в отношении «неэффективного» предмета тактику игнорирования, равнодушия, имитации погруженности в него, – складывается неуверенно.
Большой шаг вперед для учащихся (казалось бы, очевидный, но, как правило, не совершаемый) – постараться самим ответить на эти вопросы. Конструктивным со стороны студента представляется действие по постоянному выдвижению гипотез о связи поступающей научной информации с имеющимися у него частными (внутри общей) картинами мира (биологической, физической, лингвистической и др.). Конечно, большая часть группы студентов вряд ли будет ориентирована на такую модель жизнестроительства. К тому же все сказанное не означает, что невозможна противоположная ситуация, когда учащийся серьезно увлечен содержанием дисциплины, мотивирован глубже ее изучать, но при этом и он не слишком решителен в задавании вопросов или вовсе обходится без них. С другой стороны, студент может ставить себе задачи по достижению количественных показателей личностного развития: прочитать n-количество книг из списка литературы к предмету, запомнить определенное количество цитат, имен – и это не будет существенно отличаться от задач адептов бизнес-проектирования персонального существования. При этом далеко неочевидно обращение студента к практике вопрошания при условии признания им учебного предмета эффективным.
«Только чувство непонимания, – считает О.А. Донских, – может вести к настоящему интересу, вопросам и, в конечном счете, к серьезному знанию» [Донских 2018, 113]. Это верно при условии, что само непонимание осознается («чтобы быть в состоянии спрашивать, следует хотеть знать, то есть знать о своем незнании» [Гадамер 1988, 427]), воспринимается как проблема и становится предметом искреннего интереса. Однако далеко не всегда чувство непонимания ведет к каким-либо действиям по его прояснению, не всегда привлекает и мотивирует человека; напротив, иногда оно вызывает злость, раздражительность, усталость, фрустрацию или равнодушие. Не стоит абсолютизировать роль непонимания как катализатора изумления, удивления, гносеологической озабоченности, само понимание, как известно, также рождает и поддерживает интерес.
Не претендуя на перечисление большинства причин, предложим релевантную для настоящего исследования типологию. В качестве исходного момента для типологии предположим, что учащиеся физически, физиологически и психоэмоционально здоровы, поэтому в ней не будут отражаться причины, обусловленные проблемами со здоровьем. К причинам, по которым студенты молчат, не задают вопросов преподавателю или одногруппникам по поводу прочитанного и услышанного, относятся следующие.
-
1. Студенты в данный момент не находятся в состоянии гносеологической озабоченности. Состояние гносеологической озабоченности создается преподавателем, другими студентами и проблемным содержанием той науки, которую они изучают. Упрощенно говоря, это ситуация, когда ты не можешь не задавать вопросов.
-
2. Студенты склонны к эпистемическо-му эгоизму в его крайней форме: «В крайней версии подобного эгоизма мы вовсе отказываем в доверии другому как источнику знания, полагаясь исключительно на себя» [Муртазин 2023, 53]. Нет смысла задавать вопросы
тому, чьим познавательным способностям ты не доверяешь. На непоследовательность эпи-стемического эгоизма указывает А.Р. Каримов, противопоставляя ему эпистемический универсализм [Каримов 2019, 332].
-
3. Студенты боятся или не хотят рисковать. Это страх либо нежелание открыть или хотя бы приоткрыть свое «мысленное поле» другому. В связи с этим часто можно услышать от студента опасения показаться глупым, невежественным или некомпетентным, опасения, что тебя высмеют или будут осуждать. Бывает и обратное: стремясь не показаться «слишком умным», проявляя лояльность, задают наивные, поверхностные вопросы. В обоих случаях перед нами трансакция с позиции «Ребенка».
-
4. Студенты ощущают либо осознают в диалоге, в запросе на вопрошание скрытую или явную иерархичность, подозревают властный монолог, мимикрирующий под диалогическое взаимодействие: «Зависимость вопрошания от социальных иерархий делает его асимметричным : одни участники взаимодей-
ствия имеют больше прав (или исключительные права) на задавание вопросов, чем другие» [Данилова, Карастелев 2018, 118–119]. Молчание и нежелание спрашивать в таком случае могут представлять собой попытку выключиться из иерархических связей, но иногда это способ перехватить власть: «Если спрашивающий осуществляет власть над адресатом, инициируя обмен мнениями, отказ адресата отвечать является попыткой пресечь и перехватить власть адресанта» [Kurzon 1998, 32].
-
5. Студент не интересуется тем, как, почему и зачем мыслит и думает другой человек. Не интересуется, иными словами, Другим как познающим человеком (homo cogitans). Это своеобразная форма эпистемического эгоизма, где речь идет уже не о доверии к субъекту знания и познания, а об интересе к нему. Квинтэссенция незаинтересованности в Другом запечатлена в некоторых трюизмах, фразеологических оборотах: «сколько людей, столько и мнений», «у каждого своя точка зрения», «на вкус и цвет товарищей нет» и т. п. Если подобные высказывания возникают в пространстве дискуссии, то за ними скрывается не столько приверженность к релятивизму, радикальному скептицизму, сколько неуверенность, страх либо нежелание выяснения ценности, весомости, обоснованности и состоятельности выраженной позиции. Ссылка на подобные обороты есть эксплицитное указание на психологический дискомфорт, утомленность, на возникшую отчужденность от обсуждения какого-либо положения.
-
6. У студентов слабо развита культура вопрошания, способность к формулированию и «изобретению» вопросов: «Процесс вопрошания и озарения новыми ответами лежит в самой сердцевине подлинной познавательной деятельности, а студенты часто не умеют и не знают, что спросить и как проявлять подлинное любопытство...» [Прокопенко 2021, 269]. Здесь, как правило, отмечаются следующие моменты: во-первых, вызванная эпис-темическим эгоизмом, либо неуверенностью, либо избытком впечатлений ситуативная неспособность отделить вопрос от изложения собственной точки зрения: спрашивающий вместе с вопросом «контрабандой» провозит свое мнение по нему, очень часто заслоняющее суть вопроса. В таком поведении (как и в четвертом случае) можно даже усмотреть нарциссизм, присущий, согласно Жилю Липо-вецки, современному индивидуализму: «Сообщение ради сообщения (вопрос ради вопроса. – В. Д. ), самовыражение ради того лишь, чтобы выразить самого себя и убедиться, что тебя слушает хотя бы микроаудитория» [Ли-
повецки 2001, 31]. Во-вторых, неразличение гносеологической направленности вопросов, например, вопросов почему и зачем . В-третьих, неспособность так сформулировать вопрос, чтобы он был понятен и себе и аудитории. В-четвертых, декоративность (в смысле формальность) вопросов, отсутствие в них подлинного вопрошания, использование риторических вопросов. «В вопросе должно быть вопрошание – золотое правило теории вопроса» [Ряшенцева 2011, 61], риторический вопрос лишен «не только действительно спрашивающего, но и действительно спрашиваемого» [Гадамер 1988, 428]. В-пятых, отсутствие ранжирования серии вопросов по степени их значимости, с одной стороны, для самого спрашивающего, с другой – для отвечающего. В-шестых, неуместность вопроса, его семантическая и логическая некорректность. Изобретение вопроса регулируется факторами тематической, контекстуальной и конситу-ативной уместности, принципом кооперации Г.П. Грайса и конверсационными максимами Дж. Лича. Даже если студентам понятно, что спрашивать, понятен текст, обращенный к ним, они могут испытывать коммуникативные или психологические затруднения в переводе внутренней ясности в модус, например, проблематичного вопрошания: «Но перейти от интуитивного понимания, от собственной внутренней ясности к высказыванию <...> – очень трудно» [Мамардашвили 1995, 270]. К сказанному добавим, что неразвитость внутреннего диалога ведет к пассивности во внешних интеракциях, в том числе отражается и на культуре вопрошания.
В программной статье «Аргументация и риск» Г. Джонстоун (1920–2000) пишет, что готовность человека идти на риск в спорах характеризует открытость его разума: «Я говорил об открытости разума как о включающей риск. Риск, на который идет человек с открытым разумом, заключается в том, что его мнение или поведение изменятся» [Джон-стоун-мл. 2021, 282]. В аргументационном дискурсе, в дискуссиях использование критических вопросов (Critical Question) – это способ поставить под сомнение состоятельность аргумента: «Еще одним способом атаки на аргумент является постановка критического вопроса, ставящего аргумент под сомнение, и который может опровергнуть аргумент, если его сторонник не сможет дать какой-либо подходящий ответ на вопрос» [Walton 2013, 29]. В диалектической концепции Д. Уолтона критические вопросы являются частью схем аргументации, с помощью них можно оценивать определенный тип аргумента, заявленный в схеме, и выстраивать контраргументацию. В практике современного российского образования работе с аргументацией через постановку критических вопросов, на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания.
На первый взгляд, нет никакой социальной иерархии, стоящей за возможностью задавать вопросы, когда студент обращается с ними, например, на конференции или семинаре к другому студенту. Однако в некотором смысле позиция спрашивающего уже доминантна, следовательно, воспроизводит определенную социальную структуру, пусть контекстуально и конситуативно временную, то есть ограниченную местом и временем семинара или конференции. Если опираться на предпосылку о позиции спрашивающего как доминантной, то вызывает удивление тот факт, что ее все равно не спешат занимать. Казалось бы, для студентов с развитыми (в редких случаях – гипертрофированными) мотивами самоутверждения и власти это прекрасная возможность для их реализации (впрочем, они и реализуют их, только не размышляя о зависимости практики вопрошания от статусно-ролевых отношений), но и они редко участвуют в деле вопрошания. С другой стороны, «призрак» социальной иерархии все же воздействует на учащихся, когда им предоставляется возможность расспрашивать другого: «Свою роль студенты видят только в том, чтобы давать ответы, а не ставить вопросы» [Данилова, Елизарова, Карастелев 2020, 14]. Это мнение исследователей следует принимать с оговорками, поскольку в обсуждении поведения студентов некоторых специальностей оно может посчитаться ошибкой поспешного обобщения (hasty generalization).
В целом к практике вопрошания относятся настороженно, подозрительно, нередко подходят к ней с предубеждением. Мы имеем в виду только те учебные ситуации, где эта практика становится «сюжетообразующей» (например, дискуссии или сеансы сократичес- кого диалога). Разумеется, на занятиях вопрос используется всеми субъектами, но не в равной степени. Не все вопросы оказываются легко принимаемыми. Главным образом отрицание направлено на причинные и целевые вопросы. Неэкологичным, бесполезным и вредным признается вопрос «почему?» (или начинающийся с этого вопросительного слова) многими коуч-психологами, поскольку он часто является орудием внесения смуты, навязывания вины, морального неудобства и т. п. (хотя в деловом общении нередко рекомендуется использовать упражнение Сакити Тоёда «Пять почему», см. ее описание [Оно 2005, 47–48]). Австралийский психолог и терапевт Майкл Уайт отмечает, что вопрос «почему?» пользуется плохой репутацией в сфере консультирования и психотерапии. Предвзятое отношение к вопросу, по его мнению, может быть связано с тем, «каким образом это вопросительное слово обычно используется в более широкой культуре. Вопрос “почему?” часто означает своего рода моральный допрос, унизительный для людей» [Уайт 2021, 64]. Другими словами, неодобрительная реакция на употребление вопроса, характерная для персонального дискурса (в его бытовой разновидности), переносится на практику употребления вопроса в дискурсе институциональном (выделение этих двух типов дискурса принадлежит В.И. Карасику [Карасик 2000]), будь то психотерапевтическая сфера или рассматриваемая нами педагогическая (учебно-научная) деятельность. Предположительно, происходит трансфер отрицательного ассоциативно-коннотативного фона, связанного с использованием вопроса «почему», на другие вопросы.
Не вопрос «почему?» нуждается в реабилитации, как считает Майкл Уайт, а мотивы и цели, культура его применения. Думаем, актуально уже весьма модернизированную сократовскую майевтику (см., например, технику сократического диалога в исполнении практикующего философа О. Бренифье [Бре-нифье 2016, 52–62]), находящую применение в разных областях жизнедеятельности (от образования до психотерапии), ориентировать на помощь в рождении не только идей, но и вопросов, к ним подводящим. Существуют труды, аспектно описывающие грамматику говорящего и слушающего (см. одноименные работы белорусского лингвиста Б.Ю. Нормана [Норман 2018; Норман 2024]); закономерно появление в будущем и грамматики вопрошающего.
Как избежать подобной коммуникативной неудачи, по крайней мере стремиться к этому? Программа-минимум развития культуры вопрошания, настройки себя на модус спрашивания может выглядеть следующим образом:
-
– учиться проявлять интерес к Другому как к познающему субъекту;
-
– найти в информационном окружении пример грамотно вопрошающего;
– внимательно изучать разные типы вопросов (открытые, закрытые, альтернативные, эмпирические, метатеоретические, провокационные, прогностические и мн. др.), «отрицательный материал» в спрашивании, то есть
случаи, когда вопросы оказались неуместными, агрессивными или манипулирующими;
-
– постоянно практиковаться в их задавании, актулизировать в себе почему-вопро-шание;
-
– постепенно переходить от количества задаваемых вопросов к качеству задавания, от техники к искусству (хотя бывает сложно установить, когда заданный вопрос оказывается делом техники, а когда – искусства, искусности);
-
– проводить взаимную экспертизу образовательного потенциала вопросов;
-
– переходить от вопрошания по востребованию к вопрошанию как внутренней потребности.
Итак, перед студентом должен быть пример субъекта (будь то преподаватель, YouTube-блогер или персонаж книги, сериала, игры): 1) гносеологически озабоченного; 2) доверяющего интеллектуальным способностям партнеров по коммуникации; 3) рискующего в спорах своим «я», то есть допускающего возможность изменения собственных взглядов; 4) считающего практику спрашивания свободной от каких-либо властных дискурсов; 5) интересующегося не только результатами когнитивной деятельности, но и способами, которыми она осуществляется, самим процессом мышления другого человека; 6) ориентированного на проблемное, глубокое, интерактивное вопрошание, ясного в артикулировании идей и постановке вопросов. Опора на такую модель – лишь один из первых шагов на пути к овладению компетентностью вопрошания. И нет гарантии, что такой человек, даже вычлененный сознанием из действительности как образец вопрошающего, поможет учащимся. Подойти к развитию умения задавать вопросы следует так, как обычно подходят к расширению своего лексикона. У Мартин Идена, главного героя одноименного романа Дж. Лондона, было правило ежедневно увеличивать словарный запас на 20 слов. Так и студенту вполне по силам дисциплинировать себя на каждодневное изобретение 20 вопросов, обращенных к тому содержанию, с которым он взаимодействует, слушая лекцию на паре, участвуя в семинаре, готовясь к занятиям, занимаясь самообразованием или просто отдыхая за просмотром сериалов или погружаясь в миры компьютерных игр. Необходимым для него также будет изучение различных опросников, запоминание и выписывание из прочитанных книг и статей, прослушанных лекций и плейкастов удачных, на его взгляд, вопросов.
Не стоит думать, что только студенту необходимо повышать культуру спрашивания, преподавателю также нужно ее развивать; к примеру, на лекциях и практических заданиях постоянно поощрять учащихся задавать вопросы, предлагать задания на постановку вопросов. Подчеркнем: нежелание, часто неумение задавать вопросы преподавателю или друг другу – это не очередной упрек в адрес поколения Z, а только фиксация некоторой тенденции. Инвариантная часть программы-ми-нимум – это «изобретение» заинтересованности к Другому, если она не возникает естественным путем, нахождение напарника по вопрошанию, анализ типов спрашивания, ежедневное изобретение вопросов и экспертиза их эвристического потенциала, заведение словаря / промптуария (prōmptuārium – ‘кладовая’) грамотных, искусных вопросов. Вариативная часть зависит от предметной ориентированности, предпочтений, возможностей преподавателя и студента, конкретных условий их взаимодействия.
Список литературы Невопрошающее молчание студентов как коммуникативная неудача: причины явления и способы преодоления
- Бренифье 2016 - Бренифье О. Искусство обучать через дискуссию. М.: Мозаика-синтез, 2016.
- Балашова-Куканова 2009 - Балашова-Куканова Л.Б. Психологическая составляющая дискурса вопрошания // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2009. №№ 4. С. 94-97.
- Гадамер 1988 - Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988.
- Гетманова, Щеглова 2015 - Гетманова М.Д., Щеглова Л.В. Сократический эксперимент школы Рабиндраната Тагора // Наумов И.Н. (ред.). Социокультурные исследования: межвуз. сб. науч. тр. Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2015. Вып. 20. С. 139-144.
- Гоноцкая 2013 - Гоноцкая Н.В. Связи: Философское исследование взаимопонимания. Изд. стер. М.: ЛКИ, 2013.
- Данилова, Карастелев 2018 - Данилова В.Л., Карастелев В.Е. Искусство работы с вопросами -грамотность XXI века // Идеи и идеалы. 2018. Т. 2, № 2. С. 113-127. DOI: 10.17212/2075-08622018-2.2-113-127
- Данилова, Елизарова, Карастелев 2020 - Данилова В.Л., Елизарова Е.М., Карастелев В.Е. Интерактивное вопрошание как одна из технологий современного образования // Интерактивное образование. 2020. № 2. С. 12-18.
- Джонстоун-мл. 2021 - Джонстоун-мл. Г. У. К вопросу об аргументации / пер. с англ. Е.Н. Ли-санюк, Н.В. Перовой // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 59. С. 278289. DOI: 10.17223/1998863Х/59/25
- Донских 2018 - Донских О.А. Почему студенты перестали задавать вопросы? // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. N° 42. С. 110-117. DOI: 10.17223/1998863Х/42/11
- Карасик 2000 - Карасик В.И. О типах дискурса // Карасик В.И., Слышкин Г.Г. (ред.). Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 2000. С. 5-20.
- Каримов 2019 - Каримов А.Р. Эпистемология добродетелей: науч. моногр. СПб.: Алетейя, 2019.
- Кель 2021- Кель М.Р. Время и собака. Актуальность депрессий. М.: Горизонталь, 2021.
- Липовецки 2001 - Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме. СПб.: Владимир Даль, 2001.
- Лоренц 1998 - Лоренц К. 8 смертных грехов цивилизованного человечества // Оборотная сторона зеркала. М.: Республика, 1998. С. 4-60.
- Мамардашвили 1995 - Мамардашвили М.Е. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). М.: Ad Marginem, 1995.
- Муртазин 2023 - Муртазин С.Р. Эпистемическая справедливость: доверие другому в познании как теоретическая и практическая проблема // Антиномии. 2023. Т. 23, вып. 4. С. 43-66. DOI: 10.17506/26867206_2023_23_4_43
- Норман 2018 - Норман Б.Ю. Грамматика говорящего: от замысла к высказыванию. 3-е изд. М.: URSS, 2018.
- Норман 2024 - Норман Б.Ю. Грамматика слушающего. М.: Флинта, 2024.
- Оно 2005 - Оно Т. Производственная система тойоты. Уходя от массового производства. М. : Ин-т комплексных стратегических исследований, 2005.
- Петросян 2012 - Петросян А.Э. Природа вопроса: классический взгляд. Ч. 1. От эристики к май-евтике // Научный вестник Омской академии МВД России. 2012. № 4 (47). С. 23-28.
- Прокопенко 2021 - Прокопенко Л.А. Культура воп-рошания: когнитивно-развивающая роль вопросов в организации образовательного процесса при изучении иностранного языка // Гураль С.К. (ред.). Язык и культура: сб. ст. XXXI Междунар. науч. конф. (11-14 октября 2021 г.). Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2021. С. 268-271.
- Роботова 2015 - РоботоваА. С. О диалоге, монологе и молчании в образовании // Высшее образование в России. 2015. № 8/9. С. 122-128.
- Розин 2016 - Розин В.М. Что такое вопрошание: сущность и типы? // Педагогика и просвещение. 2016. № 2 (22). С. 159-165. DOI: 10.7256/ 2306-434X.2016.2.18709
- Ряшенцева 2011 - РяшенцеваА.Ю. Педагогический вопрос: от правил к искусству // Вестник Адыгейского государственного университета. 2011. № 3. С. 57-64.
- Соловьев, Кудряшов web - Соловьев А., Кудряшов И. Смертные грехи современности // https:// insolarance.com/modern-deadly-sins/
- Уайт 2021 - Уайт М. Карты нарративной практики. Введение в нарративную терапию. 2-е изд. М.: Генезис, 2021.
- Reda 2009 - Reda Mary M. Between Speaking and Silence: A Study of Quiet Students. New York: State University of New York Press, 2009.
- Kurzon 1998 - Kurzon D. Discourse of Silence. Amsterdam: John Benjamins, 1998.
- Walton 2013 - Walton D. Methods of Argumentation. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.