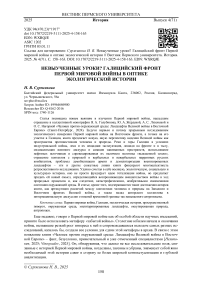Невыученные уроки? Галицийский фронт Первой мировой войны в оптике экологической истории
Автор: Суржикова Н.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История Первой мировой войны
Статья в выпуске: 4 (71), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена новым веяниям в изучении Первой мировой войны, нашедшим отражение в коллективной монографии Я. А. Голубинова, Ю. А. Жердевой, А. С. Лихачевой и О. С. Нагорной «Человек против окружающей среды: Ландшафты Великой войны в Восточной Европе» (Санкт-Петербург, 2024). Будучи первым и потому прорывным исследованием экологического измерения Первой мировой войны на Восточном фронте, а точнее на его участке в Галиции, книга предлагает новую, иную перспективу видения Великой войны как пространства противостояния человека и природы. Реки и горы Галиции в условиях индустриальной войны, леса и их нещадная эксплуатация, лошади на фронте и в тылу, медикализация военного дискурса и санация завоеванных пространств, использование нефтяных источников и спровоцированная их наличием политика «выжженной земли», отражение контактов с природой в вербальных и невербальных нарративах русских комбатантов, проблемы демобилизации армии и демилитаризации военизированных ландшафтов ‒ эти и другие сюжетные линии книги фиксируют многоаспектность ретроспективного исследования. Удачно сочетая в себе военную, экологическую, социальную и культурную историю, оно не просто фундирует идею тотализации войны, но предлагает придать ей новый смысл, определяющийся всепроникающим вмешательством войны в ход природных процессов и, как следствие, катастрофическими, необратимыми изменениями состояния окружающей среды. В статье, кроме того, подчеркиваются такие достижения авторов книги, как артикуляция различий между контактами человека и природы на Западном и Восточном фронтах Великой войны, а также вклад авторского коллектива в интернациональную дискуссию о нижней временной границе так называемого антропоцена.
Первая мировая война, Галиция, экологическая история, пространственный поворот, окружающая среда, милитаризированные ландшафты, оккупированная природа, антропоцен, Первая мировая война, Галиция, экологическая история, пространственный поворот, окружающая среда, милитаризированные ландшафты, оккупированная природа, антропоцен
Короткий адрес: https://sciup.org/147252782
IDR: 147252782 | УДК: 94(470.23)“1917” | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-4-158-163
Текст научной статьи Невыученные уроки? Галицийский фронт Первой мировой войны в оптике экологической истории
При этом, вполне вероятно, что российского читателя появление книги Я. А. Голубинова, Ю. А. Жердевой, А. С. Лихачевой и О. С. Нагорной удивит, поскольку ее тематика явно не относится к числу очевидных [ Голубинов и др., 2024]. Будучи первым и потому, по сути, прорывным исследованием экологического измерения Первой мировой войны на Восточном фронте, а точнее на его участке в Галиции, эта монография предлагает новую, иную перспективу видения Великой войны как пространства противостояния человека и природы. Вокабуляр исследования при этом разнообразен и пластичен, объединяя такие понятия, как среда, ландшафт, пространство, природа, окружающая среда и т.д. в их разных (ре)комбинациях. Инвариантность связанных с этими понятиями конструктов ‒ природа девственная, оккупированная, антропоморфизированная, демонизированная и др., пространства географические, трансграничные, антропогенные, фронтовые, военизированные и др., ландшафты беллигеративные, технизированные, ментальные, мемориальные, конфликтные, воображаемые, смерти и др. ‒ с первых страниц книги фиксируют мно-гоаспектность, многогранность представленного в ней исследования, напрямую связанную с его междисциплинарным характером. Архитектура книги, в которой, как может показаться на первый взгляд, главными выступают два вопроса (как окружающая среда воздействует на воюющего человека? и как человек воюющий воздействует на окружающую среду?) оказывается многосложной и где-то даже избыточно дробной именно в силу выраженной междисциплинарности, даже трансдисциплинарности, предложенной авторами исследовательской стратегии. Подбирая ключи к решению тех или иных задач, они легко ориентируются между (новой) военной историей, экологической историей, военно-исторической антропологией, а также подходами, сформированными в рамках пространственного, анималистического и визуального поворотов, имаголо-гии и дискурс-анализа, изысканий в области культурной географии и «биографии ландшафтов», политики памяти и практик коммеморации. Существенно, что различные подходы во всем этом богатом ансамбле не дистанцированы друг от друга; наоборот, от главы к главе они в равной степени функционированы, и их органичное переплетение заставляет признать, что по крайней мере в отечественной историографии о Первой мировой войне так никто еще не писал.
Существенно и то, что оптическая и инструментальная сложность исследования в данном случае никак не пострадала по причине очевидного отсутствия единого комплекса источников. Сформировать его авторам помогло как выявление новых свидетельств войны и проработки ее опыта, так и владение методом «внимательного чтения» уже известных. Продемонстрировав такое владение, авторы книги артикулировали проблему осознания/неосознания участниками войны ‒ от рядовых солдат до представителей военной/гражданской администрации, что они воюют не только с противником. Это же, в свою очередь, снимает вопрос о преувеличении роли экологического фактора в войне ‒ вопрос, который может появиться в лагере историков, занимающихся ее изучением в традиционном ключе.
«Столкновение с чужеродными галицийскими ландшафтами, опыт ресурсной, хозяйственной и эпидемиологической политики в завоеванных местностях, а также роль символизации природы в воображаемой и реальной оккупации не стали пока предметом специального изучения», ‒ обозначают авторы цель своего исследования [ Голубинов и др., 2024, с. 11], исходя при этом из заключения Тэйта Келлера о том, что в годы Первой мировой войны «военные действия изменили окружающую среду на всех фронтах, что она оказалась основной жертвой первой индустриальной войны» [Там же, с. 17]. Этот посыл в совокупности с целью исследования, а также опытом изысканий, посвященных Западному фронту Великой войны, сформировал логику книги, состоящей из 5 глав и 13 параграфов. Говоря о принципах организации эмпирического материала, представленного в главах 2–5, следует отметить удачное комбинирование предметного и хронологического подходов, что превратило исследовательский нарратив и в содержательно разнообразный, и в динамично развивающийся.
Впрочем, уже первая из конкретно-ориентированных глав книги оставляет место для раздумий. Намеренна ли здесь сама последовательность фиксации специфики обращения человека воюющего, во-первых, с водой, во-вторых, с горами, в-третьих, с лесом и, в-четвертых, с животными, причем сначала с дикими, а затем одомашненными? Следует ли рассматривать эту последовательность как некую иерархию различных режимов/моделей взаимодействия un uomo dalla guerra и природы/окружающей среды? Авторы не дают ответов на эти вопросы, предпочитая разговору о моделях фокусировку на конкретных практиках контактирования человека и стихии. Такие практики, что показательно, характеризуются прежде всего как конфликты, развивавшиеся между двумя полюсами: на одном из них была победа человека над силами природы (в основном в ситуации контактов с лесом и животными), на другом ‒ капитуляция перед ними (в случае с водой и горами). Однако такая картина едва ли отражает всю сложность антропоприродных взаимодействий в пространстве Галицийского фронта в годы Первой мировой войны. Они, как представляется, были неоднозначными и едва ли целиком и полностью вписывались в логику противостояния человека окружающей среде и окружающей среды ‒ человеку. В финале главы в рамках сюжета, посвященного животным на фронте и в тылу, авторы книги, по сути, признают это сами, подчеркивая: «Материалы военных институций и индивидуальные нарративы комбатантов Первой мировой войны на австро-русском фронте, фиксирующие трансформацию антропогенных ландшафтов и окружающей среды под влиянием военных действий, демонстрируют стирание границ между человеком и животными в статусе мобилизованных существ» [Там же, с. 121].
Третья глава книги, рассказывающая о механизмах управления оккупированной природой, также демонстрирует неоднозначность опыта взаимодействия армий и комбатантов с окружающей средой. Так, хищнически эксплуатируя ресурсы захваченных территорий, строя укрепления и укрытия, прокладывая дороги, разворачивая санитарно-гигиенические учреждения и тем самым разрушая мирные ландшафты с одной стороны, новая администрация была озабочена утилизацией продуктов войны, рекультивацией полей и преодолением последствий газовых атак, то есть мерами, призванными вернуть окружающей среде нарушенный баланс или хотя бы его часть, с другой стороны. При этом практически все действия и в том, и в другом направлении имели своими последствиями разрушение природных ландшафтов и возведение их технизированных аналогов. Ситуативно комбинируя различные стратегии и тактики управления пространством, воюющие стороны, как представляется, вольно или невольно демонстрировали стремление к тотальному контролю над завоеванными или возвращенными территориями. Как попытка безусловного доминирования над окружающей средой, физического и символического присвоения пространства выглядят, в частности, медикализация оккупационных дискурсов, а также связанные с ней практики санации пространств: «Наряду с военными и контрразведывательными мероприятиями медицина в восприятии командования русских армий и оккупационной администрации создавала иллюзию безопасности и выступала дополнительным средством контроля территории» [Там же, с. 152]. Политика «выжженной земли» в отношении оставляемых территорий также вписывается в логику тотального контроля, будучи, пожалуй, ее наиболее радикальной объективацией. То, как русская армия и ее союзники, даже отступая, оставались верны этой логике, наглядно отразили итоги двух операций по уничтожению нефтяных запасов в Галиции в 1915 г. и в Румынии в 1916 г.: «Пространство боя <...> стало включать в себя все природные и антропогенные объекты окружающей среды, независимо от того, какую реальную роль они играли в конфликте: их гражданский или военный статус больше не рассматривался как значимый. ˂…˃ В этом случае война действительно становилась тотальной. Тотализация в данном случае заключалась не столько в вовлечении в войну всех представителей социума в воюющих государствах, а скорее во всепроникающем вмешательстве войны в ход природных процессов и катастрофических изменениях из-за этого состояния окружающей среды, причем природные ресурсы были безоговорочно мобилизованы и использованы в качестве оружия» [Там же, с. 201–202]. Такое понимание войны, управления ею и ее пространствами едва ли можно рассматривать как прямую отсылку к идеям биовласти и биополитики М. Фуко, но это не мешает предположить, что опыт Великой войны мог способствовать их скорому рождению [ Фуко, 2010].
«Путешествие по ландшафтам смерти», а именно так называется четвертая глава книги, выглядит неожиданно лаконичной и где-то даже схематичной. Вместе с тем, занимая всего 25 страниц текста, она не просто предлагает посмотреть на ландшафты войны глазами русских комбатантов. Эта часть работы доказывает, что «в коммуникации свидетелей военных событий конструкт чужеродной окружающей среды Галиции выполнял многообразные функции. Он связывал довоенные горизонты ожиданий и пространства нового опыта, позволял сформировать удобные ментальные карты незнакомой местности, адаптировать ежедневные стратегии выживания к экстремальным условиям военных действий» [Голубинов и др., 2024, с. 204]. Подчеркивается, что как отражающие индивидуальное восприятие военного опыта эго-документы, в которых окружающая среда в зависимости от успешности военных действий либо романтизировалась, либо демонизировалась, так и визуальные нарративы, запечатлевшие естественногеографические образы завоеванной территории, архитектурные или исторические достопримечательности, ресурсное освоение местности, причиненные войной разрушения или страдания мирного населения служили целям присвоения завоеванной местности и были актом интерпретации происходившего, воспроизводя и транслируя практически одни и те же образы, а также их схожую динамику. Это заключение получило развитие в диссертационном исследовании А. С. Лихачевой, в рамках которого авторы вербальных и невербальных нарративов, посвященных Галиции 1914–1917 гг., охарактеризованы как особое коммуникативное сообщество, а их дифференциация по признакам пола, плотности контактов с окружающей средой и местным населением, специфике выполняемых на фронте обязанностей позволила выявить и представить более широкий спектр моделей описания милитаризированных пространств [Лихачева, 2024].
Пятая глава книги, в центре которой находится тема демилитаризации и переозначивания военного ландшафта в мирный, выводит исследовательский нарратив за рамки Первой мировой войны. Это обусловлено тем, что демилитаризация позиционируется здесь не только как опыт демобилизации армии и очищения фронтовых и прифронтовых пространств от вооружений, техники, укреплений и т.д. Демилитаризация, по мысли авторов книги, требовала большего: она требовала преодоления «токсичного наследия империй», детоксикации пространств и физических, и ментальных [ Голубинов и др., 2024, с. 231]. Однако, несмотря на целый ряд бюрократических инициатив и административных структур, возникших с демобилизационными целями, даже их достижение стало проблемой. Что же касается демилитаризации, то она оказалась отягощена новыми военными и парамилитарными конфликтами в пограничных районах бывших Российской и Австро-Венгерской империй, реоккупацией этих территорий германской, австровенгерской и румынской армиями, а также настоящей «эпидемией» насилия в повседневной жизни местного населения. Детоксикации, полного освобождения пространств бывшего Русского фронта от токсичного наследия империй так и не состоялось и, вероятно, не могло состояться в силу его стремительной ремилитаризации уже в середине 1918 г. [Там же, с. 291].
Финал книги, по сути, оставляет открытым вопрос о демилитаризации Галицийского фронта Первой мировой войны. Вопрос, явно требующий дальнейшего обсуждения при опоре на материалы архивов Украины и Польши, оказывается довольно продуктивным. Таковым его делает попытка показать, как опыт завершившегося конфликта повлиял на экологическое сознание его современников. Авторы указывают, что следы этого влияния следует искать не только в расчетах военных специалистов 1920–1930-х гг., но и в дискуссиях о праве первобытной природы на существование, способствовавших институционализации природоохранного движения. Но были ли уроки Великой войны тем самым выучены? Как представляется, они не были даже до конца осознаны, а потому едва ли стоит удивляться тому, что в межвоенный период, так называемый интербеллум, «одержимость контролем над окружающей средой, вера в могущество инженерной мысли и техники без учета их катастрофических последствий стали определяющими факторами во взаимоотношениях человека и природы» [Там же, с. 298].
Очевидно, что книга «Человек против окружающей среды: Ландшафты Великой войны в Восточной Европе» должна быть признана безусловной творческой удачей ее авторов и большим событием в историографии, причем не только в отечественной. В связи с этим замечанием хочется подчеркнуть, что авторам действительно удалось показать существенную разницу в отношениях человека и окружающей среды на подвижном Восточном и стабильном Западном фронтах Великой войны: «Эластичность Русского фронта вносила в практики взаимодействия с окружающей средой больший хаос в годы войны, однако она же, по всей вероятности, способствовала тому, что совокупный военный ущерб был не глубже, а шире, чем на Западном фронте. На Русском фронте меньше полей пострадало от газовых атак, меньше территории было обращено в токсичные боло- та, но из-за многочисленности армий выше была антропогенная нагрузка: больше захоронений павших, больше трупов лошадей, большая скученность людей… больше загрязненность территории, больше инфекционных заболеваний, больший ущерб инфраструктуре» [Там же, с. 233].
Кроме того, книга как минимум актуализирует интернациональную дискуссию вокруг понимания антропоцена ‒ геологической эпохи, для которой характерно беспрецедентное по своим масштабам влияние человечества на облик планеты, на литосферу, гидросферу и атмосферу. Гипотеза Пауля Крутцена и Юджина Стормера, которые в 2000 г. впервые предложили говорить об антропоцене в рамках гуманитарных штудий, предлагает начинать его отсчет со второй половины XVIII в. ‒ с начала первой промышленной революции. Однако «большинство авторов датируют начало антропоцена серединой ХХ в., связывая усугубившееся влияние человека на природу с последствиями ядерных испытаний, небывалого загрязнения воздуха и почвы промышленными отходами» [Там же, с. 15]. По мнению Евы Бинчик, польской исследовательницы, проанализировавшей широкий спектр дискуссий вокруг понятия «антропоцен», промышленная революция складывалась из множества медленных изменений, последствия которых стали очевидны лишь в XIX в. [ Бинчик , 2022, с. 104]. Следовательно, однозначного геологического маркера, свидетельствовавшего о том, что антропоцен начался во второй половине XVIII в., не существует. Совокупность же глобальных изменений в окружающей среде: закисление Мирового океана, изменение содержания азота и фосфора в почве, утрата биологического разнообразия, гомогенизация видов на планете и т.д. ‒ обнаруживает себя только к середине ХХ в., маркируя начало антропоцена именно этим временем [Там же, с. 112]. Авторы же ретроспективного исследования, опираясь на изученный ими опыт отношений природы и общества в период Первой мировой войны, считают возможным сдвинуть этот рубеж на несколько десятилетий назад: «Экосистемное воздействие войны на ландшафты: выжигание нефтяных месторождений, заболачивание пойм, вырубка лесов, бомбтурбация почв и их насыщение ядовитыми веществами и металлами, изменение рельефа в ходе строительства дорог и укреплений ‒ не оставляет сомнений в необходимости классифицировать Великую войну в качестве одной из ключевых вех антропоцена» [ Го-лубинов и др., 2024, с. 149]. Вместе с тем финализирующие исследовательский нарратив результаты изысканий, проведенных комиссией «Почвы под воздействием войны» в 2012 г. в Германии с целью анализа полей сражений двух мировых войн, скорее подчеркивают, что хронология антропоцена остается неочевидной, нежели конкретизируют представления о ней1.
Наконец, отметим еще один вопрос, который провоцирует ретроспективное исследование и который видится актуальным не только для отечественной историографии. Если принять как данность тот факт, что Первая мировая война фактически стерла границу между фронтом и тылом, можно ли вести разговор о первом в отрыве от второго? Насколько герметичными были военизированные пространства, и можно ли считать внутренние районы воюющих государств их разновидностью? Такая постановка проблемы, вероятно, не только разнообразит историографический ландшафт Первой мировой войны, но и фундирует концепции тотальной войны и всеевропейской гражданской войны 1917–1945 гг.