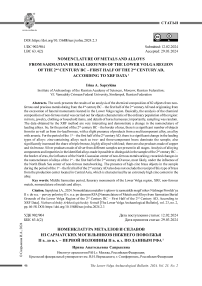Номенклатура металлов и сплавов из сарматских могильников Нижнего Поволжья II в. до н.э. - первой половины II в. н.э. по данным РФА
Автор: Сапрыкина И.А.
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В работе представлены результаты анализа химического состава 82 предметов из цветного и драгоценного металлов, датируемых IV в. до н.э. - первой половиной II в. н.э. и происходящих из раскопок погребальных памятников, расположенных на территории Нижнего Поволжья. В основном анализ химического состава цветного металла выполнялся для предметов, характерных для рядового населения региона: это зеркала, украшения, предметы одежды или быта, детали конской упряжи; важно, что комплектование выборки носило случайный характер. Полученные методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) данные весьма интересны и демонстрируют смену номенклатуры ведущих сплавов. Так, для периода II в. до н.э. - рубежа эр отмечается доминирование предметов из оловянной, а также из оловянно-свинцовой бронзы, при незначительном присутствии изделий из многокомпонентного сплава, сплава с мышьяком. Для периода I - первой половины II в. н.э. отмечается знаковая смена в ведущих типах сплавов: в выборке доминируют цинкосодержащие сплавы, такие как двух- и трехкомпонентная латуни; также значительно увеличилась доля тройной бронзы, высоколегированной свинцом, присутствуют также изделия из меди, оловянной бронзы. Попавшие в выборку серебряные изделия из серебра разной пробы присутствуют во всех периодах. Анализ легирующих компонентов и примесей в выявленных сплавах позволил выделить в выборке II в. до н.э. - рубежа эр влияние северокавказского очага цветной металлообработки; зафиксированные изменения в номенклатуре сплавов I - первой половины II в. н.э. возникли, вероятнее всего, под влиянием северопричерноморского очага цветной металлообработки. Присутствие в выборке предметов из высокоцинковой латуни в период I - первой половины II в. н.э. также не исключает поступление такого вида латуни из центра производства, расположенного в Центральной Азии, для которого характерно крайне высокое содержание цинка в сплаве.
Среднесарматский период, погребальные памятники нижнего поволжья, рфа, цветной металл, номенклатура металлов и сплавов
Короткий адрес: https://sciup.org/149145791
IDR: 149145791 | УДК: 902/904 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2024.2.3
Текст научной статьи Номенклатура металлов и сплавов из сарматских могильников Нижнего Поволжья II в. до н.э. - первой половины II в. н.э. по данным РФА
В рамках данной публикации представляются результаты исследования химического состава цветного металла из погребальных памятников Нижнего Поволжья в рамках изучения номенклатуры основных металлов и сплавов, циркулировавших в период IV в. до н.э. – первой половины II в. н.э. на территории Нижнего Поволжья, начатого Т.Б. Барцевой [1974]; рассматривается возможное влияние на этот процесс разных центров цветной металлообработки, с дальним прицелом на возможную увязку динамики в смене ведущих типов металлов и сплавов с итогами различных военно-политических взаимодействий этого периода [Скрипкин, 2017, с. 174, 194–195].
В настоящий момент получены данные по химическому составу предметов из цветного и драгоценного металлов для 82 предметов, датируемых IV в. до н.э. – первой половиной II в. н.э., происходящих из погребальных памятников и хранящихся в фондах Волгоградского краеведческого музея 2. Для анализа РФА были привлечены предметы из цветного металла, найденные в ходе раскопок курганных могильников Аксай I–II, Быково, Пе- регрузное I, Неткачево, Ковалевка, Калинов-ский-II, Вербовский (I–III) и др., расположенных на территории Волгоградской области (материалы из раскопок археологических экспедиций Волгоградского государственного университета и других научных организаций) 3; значительная часть предметов, исследованных в публикуемой аналитической выборке, происходит из памятников, расположенных в бассейне р. Есауловский Аксай (рис. 1) [Коробкова, 2015, с. 80–81]. Полученная аналитическая выборка оказалась ценна присутствием в ней большого количества предметов (в основном это зеркала, украшения, предметы одежды или быта, детали конской упряжи (рис. 2)), более характерных для рядового населения этого региона [Скрипкин, 2017, с. 198–199].
Методы аналитического исследования
Аналитические исследования цветного металла выполнялись неразрушающим безэ-талонным методом РФА с использованием приборной базы Центра коллективного пользования ИА РАН (РФА-спектрометр 5i Tracer, Bruker). Источник возбуждения: рентгено- вская трубка (мощность 4 Вт) с зеркалом из родия (Rh), напряжение: 6–50 кВ, ток: 4,5– 195 мкА, параметр автоматической подстройки напряжения и тока под режим работы.
Метод заключается в получении и обработке спектров выхода флуоресцентного излучения, возбуждаемых рентгеновским излучением. Точность получаемых данных варьируется от 0,001 до 0,01 %, при программной обработке спектров процентное содержание элементов приводится к 100 %. На точность анализа оказывает свое влияние степень очи-щенности анализируемой поверхности от сопутствующих наслоений (грязи, коррозии и т. д.), а также от плотности и состава самого анализируемого объекта.
Полученные данные представлены в таблице 1. Ранжирование полученных данных проведено в соответствии с классификацией металлов и сплавов, в основе которой – геохимический принцип разделения легированных металлов и сплавов с содержанием легирующих компонентов от 1,0 % и выше.
Результаты и обсуждение
Химический состав металла был исследован методом РФА для 82 предметов, выполненных из цветных и драгоценных металлов, совокупно датирующихся в широком хронологическом интервале от II в. до н.э. по I – первую половину II в. н.э.; четыре предмета из аналитической выборки датируются в более широком хронологическом интервале от IV до I в. до н.э. (табл. 1, № 1–4) и представлены в основном зеркалами, характерными для ранней группы погребальных памятников [Скрипкин, 2017, с. 89].
В полученной выборке, как видно из гистограммы (рис. 3), доминирует оловянная бронза с содержанием олова min – 4,96 %, max – 31,29 % (усредненное значение – 14,96 %); в эту группу сплава также попали зеркала, выполненные из высокооловянной бронзы (Sn > 20 %) – именно они и происходят из погребений, датируемых ранним периодом (табл. 1, № 1, 2), а также из комплексов II– I вв. до н.э. (табл. 1, № 12, 18), I в. до н.э. (табл. 1, № 31), I в. н.э. (табл. 1, № 39), I – первой половины II в. н.э. (табл. 1, № 79) (рис. 4). Для отливки части зеркал, происхо- дящих из погребений II–I вв. до н.э. – I в. н.э., была также использована низколегированная (Sn < 10 %) оловянная бронза (табл. 1, № 21– 23, 28, 35, 40).
Из низколегированной оловянной бронзы, характеризующейся стабильным содержанием олова в пределах 9,05–10,91 % (табл. 1, № 5, 7–10), были выполнены детали конской узды из состава Качалинского «клада» II в. до н.э.4, отнесенные исследователями к кругу позднескифских вещей: это пластинчатый налобник с крючком в верхней части, нагрудная пластинчатая лунница с продольным рельефным ребром, литая полая бусина и бля-хи-ворворки [Сергацков, 2009, с. 152, рис. 5]. Зооморфный крючок-застежка из состава этого «клада», отнесенный к кругу вещей сарматских древностей [Сергацков, 2009, с. 150, рис. 2, 4 ], также выполнен из оловянной бронзы, но содержание олова здесь несколько ниже и составляет всего 7,23 % (табл. 1, № 6); отмечается характерная для других исследованных предметов из «клада» достаточно высокая присадка свинца (>1 %), являющаяся, скорее, «естественной» примесью меди, перешедшей из руды.
Из оловянной бронзы с содержанием Sn 10,22–11,45 % выполнены ручки таза с атта-шами в виде маски Силена с бородой [Трей-стер, 2019, с. 389–391], найденного в погребении 1 кургана 1 могильника Октябрьский V (табл. 1, № 36–37); М.Ю. Трейстером эта находка датирована второй четвертью – серединой I в. до н.э. [2019, с. 394]. Крайне интересным оказался результат анализа состава металла одной из ножек этого таза, выполненных в форме катушки на пластине в форме листа плюща [Трейстер, 2019, с. 383–387]: здесь был использован многокомпонентный сплав с цинком 2,8 %, свинцом 1,97 % и оловом 12,54 % (табл. 1, № 38). Такие показатели сплава явно указывают на использование многократно переплавленного лома цветного металла для изготовления ножек таза [Pollard et al., 2015]; как один из вариантов получения многокомпонентного сплава с цинком можно рассматривать и понтийскую монетную латунь I в. до н.э. [Metcalf, 2016, p. 187–188; Смекалова, 2019, с. 644–649].
Известно, что самое высокое содержание цинка в средиземноморской латуни приходит- ся на короткий период с 1-го по 70-е гг. н.э. [Morton, 2019, p. 21]. Рассматриваемая нами выборка содержит высокоцинковые латуни, происходящие из погребений, датирующихся I – началом II в. н.э. (рис. 5): здесь двухкомпонентная латунь характеризуется содержанием цинка min/max 4,88–24,2 % (усредненное – 13,63 %), а сама выборка по содержанию цинка распадается на две группы. Группа высокоцинковых латуней представлена шпильками из кургана 6 могильника Колобов-ка III, кургана 26 могильника Перегрузное I, датируемыми I – началом II в. н.э.: здесь зафиксировано очень высокое содержание цинка в пределах 18,63–24,22 % (табл. 1, № 42–45). Одна проба (табл. 1, № 41) демонстрирует аномально высокое процентное содержание цинка, маркирующее, возможно, процесс обесцинкования (коррозию цинкосодержащих сплавов). В то же время такое аномально высокое содержание цинка в анализируемых предметах также может указывать на их импорт из известных юго-восточных центров производства высокоцинковой латуни [Morton, 2019, p. 20–21; Pollard, Liu, 2022].
Вторая группа цинкосодержащих сплавов из выборки представлена двухкомпонентными латунями с содержанием цинка в пределах 4,88–14,04 % (табл. 1, № 33, 52–53, 58–59, 64, 67, 73–74); в основном это ручки от деревянных шкатулок из кургана 3 1999 г. могильника Бердия, римские «солдатские» фибулы, в частности, типа Aucissa (развитый тип с надписью, 6/19–50/70 гг. н.э. / начало последней четверти I в. н.э.) [Gugl, 1995]; щитковая фибула в виде расправленных крыльев и хвоста птицы [Костромичев, 2012, с. 73–74], найденная в могильнике Октябрьский II середины I – первой половины II в. н.э. К этой же группе цинкосодержащих сплавов относятся и находки деталей одежды и украшений из оловянной или свинцовой латуни с содержанием цинка в пределах 1,38–13,36 % (табл. 1, № 46, 54, 65–66, 70), датирующихся I – первой половиной II в. н.э.; обращает на себя внимание момент появления латунных украшений в памятниках Нижнего Поволжья, который, по-видимому, оказался синхронен аналогичному процессу, зафиксированному в среде варварского населения крымских предгорий [Сме-калова и др., 2022, с. 638].
Наряду с латунями, в таком же значительном объеме в аналитической выборке присутствует тройная бронза (CuPbSn) (рис. 3, 6), характеризующаяся, в среднем, доминированием свинца (min/max 3,02– 32,32 %, усредненное – 14,69 %) над оловом (min/max 4,61–1 3,72 %, усредненное – 8,74 %). Отметим, что повышенное содержание свинца на ручке сосуда (табл. 1, № 24) из кургана 22 могильника Ковалевка, зафиксированное на уровне 64,94 %, относится, скорее, к следам припоя, а повышенное содержание олова в 54,54 % (табл. 1, № 80) маркирует формирование на поверхности сохранившейся части зеркала (ручке) коррозионного слоя, обогащенного оловом. Крайне интересен результат анализа отдельных элементов ритуального сосуда – патеры типа Eggers 154/ Number D с ручкой с протомой барана, найденной в погребении 1 кургана 9 первой половины I в. н.э. в могильнике Вербовский II [Трейстер, 2022, с. 25–27, с. 30, рис. 4]. Тройная бронза патеры характеризуется высоким содержанием свинца над оловом, причем, содержание олова стабильно низкое (7,55– 8,51 %), а количество свинца варьируется от 15,84 до 32,32 % (табл. 1, № 49–51). Довольно странно такое высокое процентное содержание свинца в сплаве самой патеры; пока этому есть только одно объяснение, что точка анализа попала на участок, обогащенный свинцом 5. Рецептура использованной для изготовления ручки патеры и ее завершения в виде бараньей головки тройной бронзы, по крайней мере, по своим литейным характеристикам относится к наиболее привлекательным для отливки таких сложнопрофили-рованных объектов.
Относительно много в выборке оказалось предметов, выполненных из так называемой «чистой» меди, в основном это пряжки, подвески, тисненые бляшки (табл. 1, № 3, 11, 13, 55–56, 60–61, 76, 81). В эту выборку также попало зеркало с ручкой-штырем из погребения 1 кургана 7 могильника Вербовский III (табл. 1, № 75) – чистая медь не часто используется для изготовления подобной категории предметов; еще одно зеркало из погребения 11 могильника Калиновский II, датирующегося II–I вв. до н.э., было отлито из сложного медно-мышьяковистого сплава, «загряз- ненного» сурьмой (CuAs + Sb; табл. 1, № 27), что косвенно указывает на использование металла северокавказской зоны цветной металлообработки [Барцева, 1974, с. 32].
Помимо сплавов из цветных металлов, в выборку попало небольшое количество изделий из серебра (табл. 1, № 19, 25–26, 48, 63, 72) – здесь интересно посмотреть пробность изделий. Так, кольцо из погребения 2 кургана 11 могильника Неткачево и уздечная пряжка, украшенная вставками из зеленого глухого стекла (?) из погребения 2 кургана 27 Жу-товского курганного могильника, были выполнены из высокопробного серебра (950–960°), при пониженном содержании таких «коренных» примесей, как Fe, Pb, Zn, Au, Bi. Драгоценный металл пары подвесок в виде спиралей, скрученных в 1,5 оборота, из курганного могильника Калиновский II относится к многокомпонентному низкопробному серебру, разбавленному оловянной бронзой и содержащему значительную присадку золота (3,03–3,1 %; следов ртути при анализе не выявлено). Повышенное содержание золота в серебре фиксируется также для перстня с кастом из погребения 1 кургана 34 могильника Аксай II и в металле сосуда из погребения 1 кургана 51 курганного могильника Перегрузное I; причины связать повышенное содержание золота с утраченными следами золочения пока просматриваются лишь для перстня с кастом (табл. 1, № 63), в остальных случаях это может быть «“сигналом” использования серебра из источников, относящихся к Au-Ag типам месторождений; или лома цветного и драгоценного металлов» [Voudouris et al., 2019].
Динамику изменения номенклатуры металлов и сплавов в полученной выборке, на наш взгляд, удалось проследить достаточно отчетливо (рис. 7). Ранний период (IV– I вв. до н.э.) характеризуется доминированием высоколегированной оловянной бронзы, присутствует также «чистая» медь. В период II–I вв. до н.э. – рубеж эр на территории Нижнего Поволжья, при доминировании оловянной, преимущественно, низколегированной бронзы, также циркулируют такие сплавы, как тройная бронза (CuSnPb), мышьяковистая бронза (CuAs), серебро, с I в. до н.э. фиксируется появление низколегированного многокомпонентного сплава и латуни. На период I – первой половины II в. н.э. приходится резкое увеличение общей доли сплавов с цинком (высоко- и низколегированной двухкомпонентной латуни, оловянной и свинцовой латуни), тройной бронзы и «чистой» меди, а вот доля «классической» оловянной бронзы в выборке значительно падает, но не исчезает полностью.
Не менее любопытной оказалась и динамика содержания основных легирующих компонентов в некоторых сплавах: так, максимальное содержание олова в двойной бронзе приходится на I – первую половину II в. н.э. – из нее отлиты зеркала, как и в предыдущих хронологических периодах, но для изготовления других категорий предметов во всей выборке использовалась оловянная бронза с содержанием олова в пределах от 5 до 13 %. Цинкосодержащие сплавы демонстрируют следующую картину: группа высокоцин-ковых сплавов не выходит за пределы I – начала II в. н.э., и в основном в выборке представлены сплавы с цинком в пределах 5–10 %. Также интересны прослеженные изменения рецептуры сплава для тройной бронзы: для периода II–I вв. до н.э. фиксируется использование сплава с доминированием олова над свинцом, а в период I – первой половины II в. н.э. стабильно использование сплава с доминированием свинца над оловом.
Заключение
Представляется крайне любопытным попытаться связать полученные по выявленной динамике изменений в номенклатуре металлов и сплавов данные с реконструкцией основных процессов, протекавших в Нижнем Поволжье в среднесарматский период, предложенной А.С. Скрипкиным [2017, с. 201]. Территория расположения погребальных памятников, предметы из которых нами исследовались в данной выборке, отождествляется с местом расселения аорсов Страбона во II–I вв. до н.э.; в этот период номенклатура металлов и сплавов, зафиксированных в данной выборке, подтверждает уже отмечавшуюся значительную близость с обширным северокавказским центром цветной металлообработки [Барцева, 1974, с. 32–33, рис. 9]. Период I – первой половины II в. н.э., с его резкой сменой в выборке ведущих типов сплавов на цинкосодержащие (так называемый «индекс романизации») [Dungworth, 1997], четко указывает нам на близость с другим крупным центром цветной металлообработки этого времени – северопричерноморским [Барцева, 1974, с. 34–36; Смекалова и др., 2022]. В выборке присутствует также некоторое количество предметов, сплавы которых могут быть связаны с центром производства высокоцин-ковых латуней в Центральной Азии [Pollard, Liu, 2022]. Косвенным образом это коррелирует с наблюдением о появлении на территории Нижнего Поволжья другого населения, наладившего отсутствовавшие ранее контакты с Северным Причерноморьем и Востоком [Скрипкин, 2017, с. 201–202].
Список литературы Номенклатура металлов и сплавов из сарматских могильников Нижнего Поволжья II в. до н.э. - первой половины II в. н.э. по данным РФА
- Барцева Т. Б., 1974. Цветная металлообработка на Северном Кавказе в раннем железном веке // Советская археология. № 1. С. 24–37.
- Коробкова Е. А., 2015. Особенности погребального обряда среднесарматских памятников Есауловского Аксая // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 35, № 5. С. 79–84.
- Костромичев Д. А., 2012. Римские фибулы Херсонеса // Херсонесский сборник. Вып. 17. Севастополь: М. Э. Арефьев. С. 47–154.
- Сергацков И. В., 2009. «Клад» II в. до н.э. из окрестностей станицы Качалинской // Российская археология. № 4. С. 149–159.
- Скрипкин А. С., 2017. Сарматы. Волгоград: Изд-во ВолГУ. 293 с.
- Смекалова Т. Н., 2019. Новые данные о чеканке Боспора времени Митридата VI // Вестник древней истории. Т. 79, № 3. С. 640–652.
- Смекалова Т. Н., Антипенко А. В., Лысенко А. В., Мордвинцева В. И., Деваев А. С., Леонов Л. Л., Гаврилюк А. Н., Жильцов Г. С., 2022. Феномен использования латуни для изготовления украшений в среде варварского населения римского времени // Российские нанотехнологии. Т. 17, № 5. С. 631–641.
- Трейстер М. Ю., 2019. Таз(-ы) из кургана № 1 могильника Октябрьский-V (о центре погребальных памятников кочевой элиты в междуречье Дона и Волги) // Вестник древней истории. Т. 79, № 2. С. 379–415.
- Трейстер М. Ю., 2022. Римские бронзовые патеры типов Eggers 154–155 в Сарматии // Проблемы истории, филологии, культуры. № 1. С. 23–60.
- Dungworth D., 1997. Roman Copper Alloys: Analysis of Artefacts from Nothern Britain // Journal of Archaeological Science. Vol. 24 (10). P. 901–910.
- Gugl Ch., 1995. Die römischen Fibeln aus Virunum. Klagenfurt: Landesmuseum für Kärnten. 108, 33 S.
- Metcalf W. E., 2016. The Oxford Handbook of Greek and Roman Coinage. Oxford: University Press. 720 p.
- Morton V., 2019. Brass from the Past. Brass Made, Used and Traded from Prehistoric Times to 1800. Oxford: Archaeopress. 358 p., il.
- Pollard A. M., Bray P., Gosden C., Wilson A., Hamerow H., 2015. Characterising Copper-Based Metals in Britain in the First Millennium AD: A Preliminary Quantification on Metal Flow and Recycling // Antiquity. Vol. 89, № 345. P. 697–713.
- Pollard A. M., Liu R., 2022. From Alexander the Great to the Buddha: Buddhism and the Introduction of Brass Technology into China // Archaeological and Anthropological Sciences. 14:111. DOI: https://doi.org/10.1007/s12520-022-01583-6
- Voudouris P., Spry P. G., Melfos V., Haase K., Klemd R., Mavrogonatos C., Repstock A., Alfieris D., 2019. Gold Depositsin Greece: Hepogene Ore Mineralogyasa Guide Precious and Critical Metal Exploration // Proceedings of the 1st International Electronic Conference on Mineral Science, 16–31 July 2018. MDPI: Basel, Switzerland. DOI: https://doi.org/10.3390/IECMS2018-05452