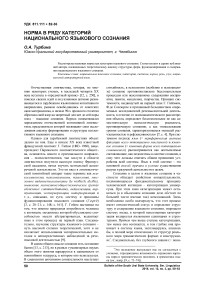Норма в ряду категорий национального языкового сознания
Автор: Турбина Ольга Александровна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Языковая норма
Статья в выпуске: 3 т.12, 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрена языковая норма как категория языкового сознания. Статья входит в серию публикаций автора, посвященных теоретическому анализу структуры, форм, функционирования и содержания национального языкового сознания.
Ациональное языковое сознание, категория, система, норма, речь, узус, национальный литературный язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147153969
IDR: 147153969 | УДК: 811.111
Текст научной статьи Норма в ряду категорий национального языкового сознания
Отечественная лингвистика, которая, по мнению некоторых ученых, в последней четверти ХХ века вступила в «предметный кризис» [12, с. 250], в поисках свежих идей и под влиянием активно развивающегося в зарубежном языкознании когнитивного направления, рывком освободившись от советских оков материализма, в начале 90-х прошлого столетия обратила свой взор на запретный для нее до сей поры плод – языковое сознание. Период ознаменовался зарождением отечественной когнитивной лингвистики, представители которой посвящают свои исследования анализу формирования и структуры коллективного языкового сознания.
Однако для зарубежной лингвистики объект далеко не нов. Еще в начале ХХ века известный французский лингвист Г. Гийом (1883–1960), вицепрезидент Парижского лингвистического общества, основатель нового и оригинального направления – психосистематики, чьи заслуги в области лингвистики получили высокую оценку Французской академии, начал изучать ментальный аспект речевой деятельности. Это он ввел в лингвистический понятийный аппарат такие термины как психосемиология, психомеханизмы, психогения, мысленное видение/высказывание (le visible/le dicible), мышление молчаливое/общее/человеческое (pensée silencieuse/ commune/humaine), актуализация, виртуализация, экстериоризация, интериоризация и т. д., описывая, по сути, систему и принципы функционирования языкового сознания ( l’esprit ) [3, с. 20–21; с. 148; с. 161]. Г. Гийом настаивал на том, что именно природная потребность человека к когниции, механизмы которой обусловлены способностью мысли абстрагироваться, выдвигает язык в этом процессе на первый план. Следовательно, изучение структуры языкового сознания – путь высокой степени теоретический, хотя и не исключает использования экспериментальных методик и непосредственных наблюдений за речеязыковой деятельностью [9].
В самом общем смысле сознание есть осознание бытия [13, с. 213], но в разных гуманитарных науках объем этого понятия варьируется в зависимости от понятийного тезауруса, в котором оно используется. В социологии антонимом сознательности выступает стихийность, в психологии (особенно в психоанализе) сознание противопоставлено бессознательным процессам или неосознанному содержанию восприятия, памяти, мышления, творчества. Принцип системности, выдвинутый на первый план Г. Гийомом, Ф.де Соссюром и признанный большинством современных исследователей речемыслительной деятельности, в отличие от психоаналитического рассмотрения объекта, определяет бессознательное не как самостоятельную психологическую реальность, противоречащую сознанию, а как «нижележащие уровни сознания, характеризующиеся меньшей расчлененностью и рефлексивностью» [7, с. 4]. При системном подходе язык (= периферическая система фиксации всего потенциально мыслимого) и языковое сознание (= языковая форма всего потенциально сознаваемого) рассматриваются как неотъемлемые составляющие, как подсистемы в системе сознания, в силу чего должны отвечать общим принципам устройства всей системы. Язык в этой системе – это основной способ, причина и условие существования разума и разумной деятельности в целом.
Сознание в целом и языковое сознание в частности обладает свойством концептуальности, подчиняющемуся фундаментальному принципу человеческой когниции – категоризации универсума. При этом сама категоризация может оставаться (а в обыденном сознании дело обстоит по большей части именно так) неосознанной. Здесь необходимо особо подчеркнуть, что этот процесс имеет онтологический статус и определяет структуру и содержание языкового сознания, творящего систему языка, в которой неосознанная категоризация кодируется языковыми единицами и структурами. Причем чем выше степень категоризации, тем менее она осознается, и тем глубже она проникает в систему языка, эксплицируясь, казалось бы, в полной мере отвлеченных от структур реального мира грамматических формах и конструкци-ях ∗ . Следовательно, без глубокого знания (= пони-
∗ Это положение вынуждает нас не согласиться с учеными, отрицающими возможность отражения картины мира в грамматических явлениях, в грамматике языка (см., напр. [9, с. 73–74]).
мания) системы языка невозможно ни понимание того, что происходит в речи, ни тем более того, как организовано языковое сознание.
Национальное языковое сознание складывается по мере развития национального языка. Оно охватывает обширную область национального общественного сознания и представляет собой специфический, основанный на интерпретации, способ отражения универсума и формируется в процессе речевой деятельности (языкового бытия) на основе единства когнитивно-психических процессов, посредством которых осуществляется осмысление человеком объективного мира и своего бытия в нем.
Как уже было отмечено, фундаментальным принципом человеческой когниции является категоризация, чем определяется структура и самого языкового сознания, формирующаяся совокупностью категорий разного уровня. Эти категории по своему характеру делятся на онтологические, обращенные в мир, и непосредственно соотносимые с речевым поведением. К наиболее общим онтологическим категориям, различным образом выражающимся в системах конкретных языков, относятся категории материи, пространства, движения, причинности, случайности, возможности, необходимости и все семантические категории. Речеобразующие категории национального языкового сознания формируются в процессе речевой деятельности языкового коллектива (языкового бытия и языкового мышления) и составляют основу и необходимое условие жизни языка. Наиважнейшими из них являются система языка , узус , или система речи и норма [11].
Понятие языковой нормы в современной лингвистике является наиболее дискутируемым и ключевым в парадигме перечисленных категорий, ибо в зависимости от того, как представлен объем этого понятия в той или иной лингвистической концепции, зависит представление понятий системы и узуса.
Долгое время в лингвистике было общепринятым прозвучавшее в 1647 г. из уст Кл .Вожла известное определение «хорошего узуса», признанное Французской Академией в качестве определения языковой нормы. «Хороший узус» по определению Кл. Вожла – это речь образованных и приближенных ко Двору людей, выдающихся писателей и учителей языка, подчиненная единым правилам: «Стремиться нужно к тому, чтобы писать так, как говорят», – пишет Вожла [14, с. 23].
Разработка понятия нормы возобновляется лишь после публикации «Курса общей лингвистики» Ф.де Соссюра (1916 г.): предложенная ученым дихотомия «язык-речь» вдохновила лингвистов на изучение нормы как самостоятельной лингвистической реалии.
Л. Ельмслев, разрабатывая теорию Соссюра, предложил изменить противопоставление «язык-речь» дихотомией «схема-узус». При этом схема определяется как независимая от материальной реа- лизации, но способная реализоваться через узус, форма – чистая форма. На этом основании она противопоставляется норме, узусу и индивидуальным речевым актам как разным аспектам языковых реализаций. Узус в трактовке Л. Ельмслева выступает как совокупность навыков – понятие абстрактное, конкретизируемое актом речи. Норма же материальной реализации не имеет и поэтому в дихотомию «схема-узус» не включается [4, с. 65].
Э. Косериу разработал свой вариант усовершенствования предложенной Соссюром дихотомии «язык-речь» . Он заменил ее триадой «систе-ма-норма-речь» . Система по Косериу – это то, что можно говорить – «система возможностей», норма – это то, как следует говорить – «система обязательных реализаций», а речь – то, что говорится – «функция системы, система в действии» [6, с. 169–174]. Понятие системы в такой трактовке отражает структурный потенциал системы, норма и речь – реализацию системы, причем норма реализует систему в правильных, лишенных эмоциональной нагрузки образцах. Речь, следовательно, выступает по отношению к норме как понятие более широкое.
В отечественном языкознании норма трактуется по-разному, в зависимости от подхода автора и от того, что именно вкладывается в понятие нормы. В одних концепциях норма рассматривается как совокупность образцовых общеупотребительных и общепринятых форм и конструкций (О.И. Ожегов, Ф.П. Филин, В.А. Ицкович и др.). В данном случае норма очерчивается конкретным материалом и, по сути, понимается как определенная часть узуса; остальная часть узуса представлена некорректными и нетрадиционными употреблениями. С другой стороны, норма трактуется как понятие абстрактное, как свод правил употребления (Б.Н. Головин, Г.В. Степанов, В.Г. Гак). В этом случае норма выступает как часть системы.
В силу действительного характера нормы в ряде концепций она трактуется и в более широком смысле, объединяя оба вышеупомянутых понятия [2, с. 270–271]. При этом норма подразделяется на аспекты или уровни: выделяется норма на уровне языка (внутренний аспект) и норма на уровне речи (внешний аспект) – «норма языка – норма речи» (К.С. Горбачевич), «норма-узус» (П.М. Алексеев), «аксиологическая – объективная норма» (Г.В. Степанов), «норма системы – норма структуры» (В.А. Ицкович). В частности, П.М. Алексеев [1, с. 46–47] в соответствии со своей концепцией нормы дихотомию Соссюра представляет следующим образом:
система 1
Г язык норма узус 1
Г Речь собственно речь
Языковая норма
Наконец, норма рассматривается как абсолютная абстракция, существующая в сознании языкового коллектива как «свод знаний о языке» [5, с. 145]. В этом случае за основу принимается регламентирующая функция нормы и в соответствии с этим она определяется как «регламентирующий контекст» [8, с.113]. Именно такая трактовка нормы представляет ее как категорию языкового сознания в ряду таких категорий как система языка и узус .
Система языка , как категория национального языкового сознания, являет собой систему потенциальных возможностей данного языкового коллектива для осуществления речевого поведения. Узус – это функция системы, результат которой определяется речевой ситуацией, охватывающей как субъективные, так и объективные аспекты момента актуализации. Для понимания роли этой функции (узуса как категории языкового сознания) важно то, что ее результат выявляется и в конкретных речевых реализациях, и в системе языка.
Отношения между системой и узусом имеют сложный диалектический характер. Система в целом имеет ретроспективный, а узус – проспективный характер: «используя» систему, узус «изнашивает» и расшатывает ее. Организующим и регламентирующим фактором в этих отношениях является норма, ибо именно она сдерживает деструктивную функцию узуса и превращает ее в конструктивную силу для системы. При этом сама норма имеет динамический характер, развиваясь по мере эволюции языка.
Следовательно, норма это то, что удерживает всю систему отношений в равновесии, обеспечивая стабильность системе языка. Как категория языкового сознания она может быть охарактеризована как объективная оперативная установка, опирающаяся на ядро архетипа системы языка. Под ядром в данном случае понимается совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций системы, отобранных и закрепленных языковой памятью в процессе речевой деятельности.
Особое значение категория нормы приобретает в период и в процессе формирования национального литературного языка, когда ее регламентирующая функция заметно возрастает в силу обострения потребности в унификации и кодификации грамматических форм и конструкций, а также в силу необходимости сдерживать стихийные порывы языкового творчества, стимул к которому пробуждается в результате осознания роли национального языка в историко-культурном становлении нации. Вспомним в этой связи уже прозвучавшую выше цитату из «Заметок о французском языке» Кл. Вожла, составленных в период активного формирования французского литературного языка: «Стремиться нужно к тому, чтобы писать так, как говорят». И вспомним великое литературное наследие А.С. Пушкина, определившее качественный сдвиг в процессе формирования современного русского литературного языка. Будучи высоко образованным человеком, он, возможно, и был знаком с концепцией языковой нормы Кл. Вожла, но гораздо более вероятно то, что, обладая выдающимся литературным талантом и тонким чутьем языка, А.С. Пушкин являет собой яркий пример носителя зрелого национального языкового сознания с развитыми его формами, коими являются – языковая интуиция, языковое знание, языковая политика и языковое творчество. Именно эта зрелость и определила гениальность его произведений: интуитивно следуя сложившейся в его языковом сознании национальной языковой норме, А.С.Пушкин сблизил письменную и разговорную речь – писал так, как говорят.
Список литературы Норма в ряду категорий национального языкового сознания
- Алексеев, П.М. Квантитативные аспекты речевой деятельности/П.М. Алексеев//Языковая норма и статистика. -М.: Наука, 1977. -С. 43-58.
- Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов/О.С. Ахманова. -М.: Наука, 1977. -С. 270-271.
- Гийом, Г. Принципы теоретической лингвистики/Г. Гийом. -М., 1992. -224 с.
- Ельмслев, Л. Язык и речь/Л. Ельмслев//В.А. Звегинцев. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. -М.: Просвещение, 1960. -Ч. II.
- Золотова, Г.А. О характере нормы в синтаксисе/Г.А. Золотова//Синтаксис и норма. -М.: Наука, 1974. -С. 145-175.
- Косериу, Э. Синхрония, диахрония и история/Э. Косериу//Новое в лингвистике. Вып. 3. -М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1963. -С. 143-343.
- Петренко, В.Ф. Психосемантика сознания/В.Ф. Петренко. -М.: Изд-во МГУ, 1988.
- Скрелина, Л.М. К вопросу о взаимодействии системы и нормы в ситуации многоязычия/Л.М. Скрелина.//Романо-германские языки и диалекты единого ареала. -Л.: ЛГПИ, 1977. -С. 111-127.
- Телия, В.Н. О специфике отображения мира психики и знания в языке/В.Н. Телия//Сущность, развитие и функции языка. -М.: Наука, 1987. -С. 65-74.
- Турбина, О.А. Структура национального языкового сознания. Язык. Культура. Образование: моногр./О.А. Турбина; под общ. ред. Е.В. Харченко. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. -С. 5-19.
- Турбина, О.А. Языковое сознание как объект лингвистической науки. Человек и его язык. Материалы XVI Международной конференции научной школы-семинара им. Л.М. Скрелиной. Санкт-Петербург, 25-27 сентября 2013 г./О.А. Турбина. -СПб.: Издательско-Торговый дом «СКИФИЯ», 2013. -С. 92-96.
- Уфимцева, Н.В. Языковое сознание: динамика и вариативность/Н.В. Уфимцева. -М.:Институт языкознания РАН, 2011. -251 с.
- Филатов, В.П. Научное познание и мир человека/В.П. Филатов. -М.: Политиздат, 1989.
- Vaugelas, Cl. Remarques sur la langue française (extraits). Publ. et comm. de René Lagane/Cl. Vaugelas. -P.: Larousse, 1969.