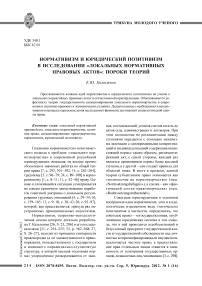Нормативизм и юридический позитивизм в исследовании «локальных нормативных правовых актов»: пороки теорий
Автор: Калюжнов Евгений Юрьевич
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Трибуна молодого ученого
Статья в выпуске: 1 (16), 2012 года.
Бесплатный доступ
Прослеживается влияние идей нормативизма и юридического позитивизма на учение о локальных нормативных правовых актах в отечественной юриспруденции. Обосновывается дефектность теории государственного санкционирования локального нормотворчества в современных политико-правовых и экономических условиях. Делается вывод о необходимости использования в процессе переосмысления исследуемого феномена достижений социологической школы права.
Локальный нормативный правовой акт, локальное нормотворчество, источник права, санкционированное правотворчество, нормативизм, юридический позитивизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14972852
IDR: 14972852 | УДК: 340.1
Текст научной статьи Нормативизм и юридический позитивизм в исследовании «локальных нормативных правовых актов»: пороки теорий
Гегемония нормативистско-позитивист-ского подхода к проблеме «локального нормотворчества» в современной российской юриспруденции очевидна: он вполне прочно обоснован в значимых работах по общей теории права [7, с. 293, 301–302; 14, с. 262–264], трудовому [5, с. 96–79; 24, с. 89–108] и корпоративному [1, с. 8–11; 11, с. 42–46] праву. Однако в сложившейся ситуации усматривается не совсем критичное заимствование наработок советской доктрины о локальном регулировании трудовых отношений [4, с. 29–34; 10, с. 159–165; 13, с. 9; 18, с. 38–43; 20, с. 93–97], которой, как представляется, присущ ряд неустранимых принципиальных недостатков.
Нормативизм, теоретико-методологическая основа которого детально разработана Г. Кельзеном [26, S. 23, 206] и его последователями [21, с. 254–255; 25, p. 562–568; 27, S. 26–27], исходит из принципа унитарности правопорядка (а не множественности право-порядков), отождествляемого с государством и имеющего пирамидально-ступенчатую структуру, в которой высшая «основная норма» упорядоченно разворачивается от зако- нов, постановлений, уставов союзов вплоть до актов суда, администрации и договоров. При этом полномочие по регламентации между ступенями передается с помощью механизма делегации с одновременными конкретизацией и индивидуализацией содержания вышестоящей нормы: таким образом, регламентирующий акт, с одной стороны, каждый раз является применением нормы более высокой ступени, а с другой – сам создает правила для областей ниже. В итоге в пределах данной теории субъективное право понимается как «полномочие на нормотворчество» (нем. «Normsetzungsbefugnis»), а сделка – как «фактический состав правотворчества» (нем. «Rechtssetzungstatbestand»).
Советская юриспруденция в основном восприняла идеи нормативизма, хотя и в идеологически измененном виде этатического позитивизма: в частности, определялось, что советское право – «огосударствленная, опуб-личенная юридическая система в том смысле, что в ней проводится всеобъемлющий и безусловный приоритет государственной власти и государственной собственности над личностью и персонифицированным имуществом, исключается частное право, а предоставление прав отдельным лицам ставится в зависимость от усмотрения государственных органов, должностных лиц, чиновников» [3, с. 298].
Правотворческая монополия распространялась исключительно на государство, по поводу чего С.С. Алексеев отмечал, что в отличие от «эксплуататорских обществ» с их «множественностью источников права», «в социалистическом обществе нормативный юридический акт является единственным, по существу, способом возведения государственной воли в закон – актом правотворчества, юридическим источником права» [2, с. 206, 208]. В свою очередь, выражение государственной воли считалось неотъемлемой чертой нормативного правового акта: «отсюда его властность, официальность, авторитарность» [там же, с. 202]. Органичным следствием данных постулатов выступало то, что «самым общим образом юридическая норма может быть определена в качестве исходящего от государства и охраняемого им общеобязательного (общего) правила поведения... Главная особенность юридической нормы – ее государственно-властный характер» [там же, с. 31–32, 34]. Очевидно, что в таких условиях ни о какой признаваемой в рамках иных школ права (в частности – социологической) автономии как непроизводной от государства нормотворческой власти [28, p. 23–61] не могло быть и речи.
Вместе с тем самоочевидный факт того, что «предприятия, учреждения, организации» неизбежно создают некие внутренние нормативы, а также в определенных случаях могут принимать участие в правотворчестве, поднял острую проблему природы власти на «локальное нормотворчество» в рамках советской правовой системы. Реакция на «слабое место» в теории породила объяснение такого феномена с помощью несколько искусственной (но весьма удобной для целей правоприменения, в том числе контроля и надзора) техники «государственного санкционирования», в качестве примеров которого приводилось принятие совместных нормативных правовых актов, в частности постановлений ЦК КПСС, ВЦСПС и Совмина СССР [2, с. 234–236; 8, с. 11–18; 16, с. 571], либо предварительное или последующее государственное уполномочие профсоюзов на самостоятельное урегулирование отдельных вопросов. Между тем этим прекрасно иллюстрируется сущность подобных проявлений нормотворческой власти и «санкционирования»: рассматривать КПСС как независимый от государства общественный институт, которому «санкцией» предоставляется полномочие создавать нормы, не представляется разумным, поскольку общепризнанно мнение о классическом для тоталитаризма включении (пусть и неформальном) в СССР политической организации в структуру государственного управления, о сращивании партийного и государственного аппаратов. Фактически аналогичная ситуация имела место и в других случаях санкционирования, которое В.М. Горшенев называл видом нормотворческой деятельности госорганов, а активность общественных организаций по созданию норм права – «участием профсоюзов и всех видов кооперации... в нормотворческой деятельности органов Советского государства» [8, с. 18]. С.С. Алексеев констатировал, что «даже в случаях государственного санкционирования того или иного правила (а не только прямого правотворчества) это правило исходит от государства... исходит в том смысле, что оно признано государством и, следовательно, выражает государственную волю, представляет государство, опирается на его мощь» [2, с. 32] (однако стоит признать, что при такой трактовке публичной природы «негосударственного» правотворчества и любой обычный договор между физическими лицами «исходит от государства», поскольку получает его признание и защиту). В.К. Самигуллин еще более категорично утверждал, что «в конечном счете все локальные нормы исходят от государства» [18, с. 39], что, естественно, касалось и локального нормотворчества советских юридических лиц, представленных главным образом государственными предприятиями (включая совхозы) и колхозами (в организационно-правовой форме сельскохозяйственных артелей).
Как представляется, в СССР все «негосударственные» организации de facto выступали составной частью системы публичного управления и именно поэтому могли рассматриваться в качестве нормотворческих органов. Иное обоснование нормотворческой власти таких субъектов в правовой системе, отрицающей существование частного права, абсолютизирующей в качестве признака нормы права ее государственно-властный характер и требующей обязательного происхождения локального нормативного акта от государства и выражения его воли, чтобы быть признанным источником права, просто невозможно.
В современном праве (с принципами деления права на публичное и частное, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, свободы объединения и неприкосновенности частной собственности) экстраполяция на новую юридическую реальность советской теории крайне затруднительна, поскольку она уже не в состоянии органично встроиться в экономически обусловленную правовую систему и получить обоснование исходя из принципов ее построения. Таким образом, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, как субъекты частного права, обладают полномочием на нормотворчество в форме своих актов, то наличие подобной власти должно объясняться уже как-то алгоритмически иначе.
Вместе с тем в российской юриспруденции публичная нормотворческая монополия, предполагающая в том числе и действие норм независимо от воли и желания участников общественных отношений (что «автоматически» выводит любой «локальный нормативный правовой акт» из числа источников права, так как корпоративное и трудовое измерения предполагают абсолютную добровольность участия), продолжает отстаиваться [17, с. 87–90, 569–573]. Исключения из общей парадигмы эпизодически встречаются, однако являются отрывочными (в частности, С.П. Маврин, описывая «локальные нормативные акты» в трудовом праве, делает замечание, что «источником нормотворческих полномочий частнохозяйствующего работодателя выступает не государственная или муниципальная власть, а его экономическая власть, проистекающая из факта правомерного обладания всеми факторами производства, включая труд» [12, с. 61]), и подчас внутренне противоречивыми (так, Г.В. Хныкин, с одной стороны, поддерживает позицию, что нормативная власть работодателя обладает самостоятельностью по отношению к государству [22, с. 46], а с другой стороны, говорит о непосредственном и опосредованном выражении государственной воли в «локальных нормативных актах» и об их санкционированности [23, с. 43, 46]).
Принципиальные выводы для нормативис-тско-позитивистской парадигмы неутешительны:
-
1) надежные «опорные точки» для обоснования нормотворчества частных субъектов отсутствуют . К примеру, М.Н. Марченко, критикуя воззрения на индивидуальный договор как на источник права (который по критерию «непризнанности» здесь близок к локальному нормативному акту), пишет: «Исходя, например, из традиционного, сложившегося еще на рубеже XIX–XX веков в отечественной и зарубежной юридической науке, позитивистского представления о праве как о системе общеобязательных норм, установленных или санкционированных государством и обеспеченных государственным принуждением, весьма трудно “вписать” договорные нормы в разряд правовых норм... с позиции традиционного позитивного права нормы индивидуальных договоров, как и сами договоры, представляют собой не что иное, как акты применения правовых норм» [15, с. 372–373], поскольку «признание индивидуального договора правовым автоматически означало бы признание за его участниками – гражданами (физическими лицами) и юридическими лицами статуса законодателя-правотворца», что по логике теории недопустимо [15, с. 376]. Однако в случае принятия теми же самыми юридическими лицами регулирующих их «внутреннюю» деятельность решений (например о штатном расписании) отрицаемый статус становится вполне реальным и одобряемым;
-
2) техника «государственного санкционирования» суррогатна . По мнению М.Н. Марченко, основной особенностью «локального нормативного акта» является «приобретение юридического характера не иначе как с санкции государства в лице его соответствующего органа, принимающего “уполномочивающий” акт» [14, с. 263], чем, думается, новые смыслы в советскую категорию «государственное санкционирование» (предполагающую наделение субъекта полномочием на нормотворчество, реализуемым в том числе путем принятия актов с заранее не определенным содержанием) не привносятся. По сути, выкладка снова сводится к рассмотрению всего процесса создания правил локального действия в качестве вида государственного нормотворчества, осуществляемого путем фактического включения общественных организаций в систему государственного
управления, что, естественно, не может в настоящее время признаваться корректным. Апология же техники санкционирования является попыткой обойти не соответствующий теории факт через нее саму, и ее научность может быть в таком случае поставлена под сомнение;
-
3) понятие «локальный нормативный правовой акт» внутренне противоречиво . Классическая «нормативность предполагает (по крайней мере в доктрине советского и российского права) всеобщность» [19, с. 291–292], с чем никак не согласуется «локальность» (организационно-статусная ограниченность) соответствующих актов, трансформирующаяся в экстерриториальность корпоративных и трудовых правоотношений;
-
4) нормативность «локального акта» нетипична . В традиционном понимании соответствующее свойство подразумевает абстрактность содержания и адресацию поведенческого предписания неопределенному кругу субъектов [7, с. 225–231]. Однако первый критерий не позволяет отграничить локальный нормативный акт, к примеру, от распространенного в гражданском обороте организационного договора (об организации перевозок, товарищеского и др.), которому именно абстрактность формулировок обеспечивает длительность действия и неоднократность реализации в повторяющихся конкретных отношениях. Второй же признак вообще неприменим к корпоративным и трудовым отношениям, в которых все субъекты строго индивидуализированы, а из добровольности участия вытекает близкий к сделочному характер действующих в рамках юридического лица или при взаимодействии с индивидуальным предпринимателем «внутренних» правил, обладающих отдельными признаками условий договора [6, c. 43–67].
Тем не менее в некоторой части теория все же жизнеспособна – она вполне приспособляема для практических целей: создания актов, их реализации, публичного контроля и надзора. М.Н. Марченко справедливо резюмирует: «Что же касается попыток представления индивидуальных, в частности гражданско-правовых, договоров в виде источников права, а содержащихся в них норм – в образе правовых норм, которые, как очевидно, не могут быть успешно осуществлены в преде-
ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО лах существующих юридических категорий и понятий и в рамках традиционного позитивистского представления о праве, то для их успешного осуществления требуется, по-ви-димому, иная методологическая основа и принципиально иное понимание того, что есть “право”, а вместе с ним “правовое” применительно к актам, нормам и пр., а что не является таковым» [15, с. 373]. Стоит признать, что данное утверждение полностью применимо и к ситуации с институтом «локальных нормативных правовых актов».
Как представляется, феномен «частного нормотворчества» настоятельно требует комплексного обновленного объяснения в рамках отечественной юриспруденции, но с позиции иных правовых традиций, прежде всего – социологической школы права (признающей за частными лицами право создавать нормы за счет расширения содержания классического понятия автономии до независимой от государства социальной власти [6, с. 43–67; 9, с. 55–72]), к положениям которой российские авторы (в особенности в работах по проблемам отдельных отраслей права), к сожалению, обычно специально не обращаются.
Список литературы Нормативизм и юридический позитивизм в исследовании «локальных нормативных правовых актов»: пороки теорий
- Алейник, С. А. Корпоративные нормы в российском праве: автореф. дис.... канд. юрид. наук/С. А. Алейник. -М., 2007. -25 с.
- Алексеев, С. С. Общая теория права: курс в 2 т. Т. 2/С. С. Алексеев. -М.: Юрид. лит., 1982. -360 c.
- Алексеев, С. С. Теория права/С. С. Алексеев. -М.: БЕК, 1995. -320 с.
- Архипов, С. И. Понятие и юридическая природа локальных норм права/С. И. Архипов//Правоведение. -1987. -№ 1. -С. 29-34.
- Букреева, Е. Правовая природа и функции локальных источников трудового права в условиях рыночной экономики/Е. Букреева//Законодательство и экономика. -2007. -№ 1. -С. 69-79.
- Вилкин, С. С. О нормативной теории решения органа юридического лица/С. С. Вилкин//Вестник гражданского права: науч. журн. № 2, т. 8. -М.: Изд. дом В. Ема, 2008. -С. 43-67.
- Вопленко, Н. Н. Очерки общей теории права: монография/Н. Н. Вопленко. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009. -898 с.
- Горшенев, В. М. Санкционирование как вид нормотворческой деятельности органов Советского государства/В. М. Горшенев//Правоведение. -1959. -№ 1. -С. 11-18.
- Гурвич, Г. Д. Философия и социология права: избр. соч./пер. М. В. Антонова, Л. В. Ворониной. -СПб.: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та. Изд-во юрид. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. -848 с.
- Иванов, С. А. Советское трудовое право: вопросы теории/С. А. Иванов, Р. З. Лившиц, Ю. П. Орловский; отв. ред. С. А. Иванов. -М.: Наука, 1978. -368 c.
- Кирилловых, А. А. Сущность и природа локального регулирования деятельности корпорации/А. А. Кирилловых//Законодательство и экономика. -2008. -№ 8. -С. 42-46.
- Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации/отв. ред. А. М. Куренной, С. П. Маврин, Е. Б. Хохлов. -М.: Юристъ, 2005. -1261 с.
- Кондратьев, Р. И. Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование/Р. И. Кондратьев; науч. ред. В. Г. Сокуренко. -Львов: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1973. -160 с.
- Марченко, М. Н. Источники права: учеб. пособие/М. Н. Марченко. -М.: Велби: Проспект, 2008. -760 с.
- Марченко, М. Н. Правовой договор как источник права/М. Н. Марченко//Общая теория государства и права: акад. курс в 3 т. Т. 2. Право/отв. ред. М. Н. Марченко. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: Норма, 2007. -802 с.
- Марченко, М. Н. Проблемы теории государства и права/М. Н. Марченко. -М.: Велби: Проспект, 2007. -768 с.
- Марченко, М. Н. Теория государства и права/М. Н. Марченко. -М.: Велби: Проспект, 2007. -656 с.
- Самигуллин, В. К. Локальные нормы и их виды/В. К. Самигуллин//Правоведение. -1976. -№ 2. -С. 38-43.
- Тарасенко, Ю. А. Юридическое лицо: проблема производной личности/Ю. А. Тарасенко//Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики/под ред. В. А. Белова. -М.: Юрайт-Издат, 2007. -993 с.
- Тарасова, В. А. Предмет и понятие локальных норм права/В. А. Тарасова//Правоведение. -1968. -№ 4. -С. 93-97.
- Туманов, В. А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве/В. А. Туманов. -М.: Наука, 1971. -384 c.
- Хныкин, Г. В. Нормативные акты организации: субъекты и пределы действия/Г. В. Хныкин//Законодательство. -2005. -№ 1. -С. 43-48.
- Хныкин, Г. В. Понятие, признаки и классификация локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права/Г. В. Хныкин//Законодательство. -2004. -№ 11. -С. 42-47.
- Шведов, А. Л. Система источников трудового права России: основные проблемы функционирования и тенденции развития/А. Л. Шведов//Российский ежегодник трудового права. Вып. 4/под ред. Е. Б. Хохлова. -СПб.: Юрид. кн., 2008. -С. 89-108.
- Jelić, Z. An observation of the theory of law of Hans Kelsen/Zoran Jelić//FACTA UNIVERSITATIS: sci. J. Series Law and Politics. -2001. -Vol. 1, 15. -Niš: The University of Niš, Serbia, 2001. -P. 551-570.
- Kelsen, H. Allgemeine Theorie der Normen/Hans Kelsen; hrsg. v. Kurt Ringhofer u. Robert Walter. -Wien: MANZ, 1979. -XII, 362 S.
- Meyer-Cording, U. Die Rechtsnormen/Ulrich Meyer-Cording. -Tübingen: Mohr, 1971. -XII, 164 S.
- Talbot, L. E. Critical Company Law/L. E. Talbot. -L.; N. Y.: Routledge-Cavendish, 2008. -VI, 393 p.