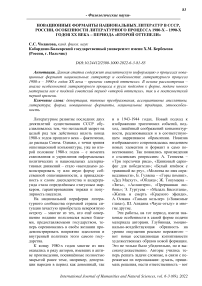Новационные форманты национальных литератур в СССР, России, особенности литературного процесса 1980-х - 1990-х годов XX века - периода "второй оттепели"
Автор: Чолакова С.С.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 6-3 (69), 2022 года.
Бесплатный доступ
Данная статья содержит аналитическую информацию о процессах новационных формант национальных литератур и особенностях литературного процесса 1980-х - 1990-х годов XX века - времени «второй оттепели». В основе рассмотрения - анализ особенностей литературного процесса в русле подходов к форме, подаче нового материала как в поздний советский период «второй оттепели», так и в постсоветский период времени.
Депортация, типовые преобразования, ассоциативные апеллятивы, литература, форма, новационные форманты, национальные традиции, этноособенность
Короткий адрес: https://sciup.org/170194901
IDR: 170194901 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-6-3-81-85
Текст научной статьи Новационные форманты национальных литератур в СССР, России, особенности литературного процесса 1980-х - 1990-х годов XX века - периода "второй оттепели"
Литературное развитие последних двух десятилетий существования СССР обуславливалось тем, что негласный запрет на целый ряд тем действовал вплоть конца 1980-х годов прошлого века – фактически, до распада Союза. Однако, с точки зрения оппозиционной конъюнктуры, уже во второй половине 1980-х годов – с момента становления и укрепления неформальных политических и национальных альтернативных движений – стало «выгодным» демонстрировать ту или иную форму собственной оппозиционности, а принадлежность к слоям диссидентства и андерграунда стала определённым статусным маркером, гарантировавшим тиражи и популярность писателя.
На национальной периферии литературного сообщества огромной страны ситуация зачастую приобретала невероятную остроту – многие из тех, кто ещё совершенно недавно пользовался всеми благами, предоставляемыми государством, теперь соревновались в своём желании продемонстрировать неприятие идеологии и внутренней политики этого самого государства.
К концу 1980-х годов многие из них оказались в ряду авторов, имевших в активе произведения, посвящённые полностью закрытой ранее теме, например, депортации народов в период как довоенный, так и в 1943-1944 годах. Новый подход к изображению трагических событий, подход, лишённый соображений конъюнктур-ности, реализовывался и в соответствующем нарративном обрамлении. Новизна изображаемого сопровождалась введением новых элементов и формант в само повествование. Так появились произведения о сталинских репрессиях: А. Теппеева – «Три горсточки риса», «Цинковый саркофаг для победителя»; «Белый ягнёнок с травинкой во рту», «Молитва во имя справедливости», Б. Гуляева – «Горы помнят», «Дед Масхут», «Облака»; Ж. Токумаева – «Зять», «Аслангери», «Прерванная любовь»; Э. Гуртуева – «Медаль Бисолтана», «Жизнь и смерть «Красного эфенди», А. Османа «Таныш козьлер» («Знакомые глаза»), Ш. Алядина «Чауш-огълу» и многие другие.
Эти работы, на тот период, имели знаковые особенности в самой форме подачи материала авторами. Глубинная, эмоцио-нально-воздействующая образность на уровне ощущения реально пережитого – вот новая составляющая когнитивности художественных образов новой формации. Это не только было убедительно, но и высокохудожественно. Авторы учились теперь решать задачи сложные, в связи с пережитым их персонажами: думать, принимать решения, нести ответственность – вот те психологические, общечеловеческие установки, на которые опирались герои новой прозы, в поисках своего места в жизни.
Поэтому мы можем говорить о расширении рамок традиций в эволюционном становлении национальной прозы периода «второй оттепели», и смеем утверждать о типовых преобразованиях всех форм как прозаических жанров, так и поэзии, драматургии. В это время авторы, «вдохнув» живительного «глотка свободы слова», обращались к анализу исторических событий через призму описаний конкретных обстоятельств и тонких ощущений душевных движений своих героев, особенностей человеческого мировосприятия. Конечно, все эти моменты требовали накопления определённых навыков, опыта повествования на новых уровнях. Отсутствие последнего приводило к тому, что на первых этапах реформации национальной новописьменной прозы ей был свойственен определённый эклектизм: внутренний психологизм, историзм, специфичность образных воплощений сопутствовали качества следующего порядка как предопределённость сюжета, предсказуемость характера и поступков, заданность персонажного ряда и др.
Понятно, что каждый писатель имел и свои подходы к форме подачи нового материала. Более того, в любом конкретном произведении всегда кроется присущий данному художнику «способ восприятия жизни», и каждый писатель, с его миром, его стилем - это самостоятельный жанр уже потому, что «этот способ восприятия жизни» обогащает сам жанр. Однако, наличие факта нового подхода к духовному, душевному миру героев - есть качественно новое, обретённое, современное в художественном творчестве национальных авторов, да и, в целом, в российской литературе. Подтверждением этому служат форманты практически любого произведения новой генерации, созданного в границах деиделогизированного подхода. Рассмотрим, например, рассказ А. Теппеева «Три горсточки риса». Здесь нет сверхгероев, явных злодеев-обидчиков, нет видимого процесса оценки-осуждения, с обяза- тельной победой добра. Писатель рассматривает весьма узкую и страшную в своей конкретике ситуацию: страдания детей, для которых мир сузился до самого жизненно необходимого - не умереть с голоду. Борьба за жизнь беспомощных детей против беззакония, которое творится в мире - вот суть изображаемого, проблема, исследуемая автором.
Рассказ, при всей своей простоте сюжета, держит в напряжении, как по ходу повествования, так и после его прочтения. Более того, описывая события прошлого, автор успешно реализовал программу оппозиционности общечеловеческих ценностей психологии во взаимоотношениях людей. Эмоционально-воздействующая сторона тех давних событий остаётся актуальной и в последующие эпохи.
Этим примечательны работы зрелого А. Теппеева, написанные в 1980-е годы ХХ века, этим автор интересен и в наше время. Внутренняя энергетика его произведений держит читателя в волнении. Здесь нет традиционных схем. Писатель не «убаюкивает», не ублажает своих слушателей, а показывает жизнь, полную драматизма. В депортации, в условиях лишения, унижения, безысходности дети остаются в бараках одни, без взрослых, голодные, больные. Их матери, близкие, родные работают с утра до темноты как враги народа в условиях комендантского надзора. Это продолжается месяцами, годами. Никому из местных жителей помогать людям нельзя, жалеть их запрещено. И вот двое плачущих детей, гонимые голодом, уходят из барака в поисках матери, еды. Приятный запах варёной пищи приводит их в один из дворов, где люди сушат свежесобранный рис. Тогда один из пожилых работников тока, взяв ведро, зачерпывает его зерном и несёт полное к детям в барак, чтоб там накормить голодных кашей… Недосказанность помогает додумывать дальнейшее.
В работах другого северокавказского прозаика Э. Гуртуева в центре внимания – ситуации пограничного характера, осознание собственной вины и причастности к драматическим процессам жизненного краха того или иного героя. Когнитивной спецификой историй Гуртуева чаще всего является сопричастность условного автора к судьбе представляемых героев в совокупности с ситуативной отстранённостью рассказчика-автора от непосредственного действия повествования: «Жизнь и смерть «Красного эфенди», «Плач одинокой совы», «Серенада в ночи», «Жил отважный капитан» и др.
Рассказы Э. Гуртуева представляют большой интерес для исследования в плане авторского видения и понимания природы рассказа. В творчестве этого автора «малая» проза занимает одно из главных мест, поэтому внутрижанровые поиски этого автора иллюстративно широки: от философского осмысления и отражения общих социальных коллизий современной писателю действительности, до фиксации тонкого драматизма поступков отдельных героев, отражения деталей уникальных характеров. По рассказам Э. Б. Гуртуева, в определённой степени можно проследить историю балкарского народа XX столетия, с соответствующими выводами, обобщениями. Так, в рассказе «Звёздочка, погасшая в Сауту», главный герой Кичибатыр рассказывает о своём горе, которое было частью большой трагедии, постигшей маленький горский народ в годы Великой Отечественной войны – депортации балкарского народа в марте 1944 г.
Повествование, речь его героев богаты интонационно, точно воспроизводят смену психологических состояний действующих лиц, пластично очерчивая облик персонажей, их духовный мир. Весёлое настроение мальчика, его живой детский интерес к особенному человеку в кишлаке, старику-могильщику Кичибатыру, который всегда замкнут, угрюм, печален – вот как полюсное представление мировосприятия героев.
Герои Э. Гуртуева – историчны: «эпоха» органично «лепила» данные характеры. Конкретные события придавали поступкам героев «особые приметы», нравственно-психологические черты: мальчик постигает, «исследует» жизнь, ещё не понимая, какую роль уготовила для него судьба, уже немилосердная к представителям маленькой балкарской общины в далёком узбекском кишлаке. А Кичибатыр – старик, исполняющий обязанности самые тяжёлые и печальные, он мулла и могильщик для усопших на чужбине земляков. «В большом мире ликовал и буйствовал Иби-лис – дьявол – враг Справедливости и Милосердия…» – такой вывод делает герой другого рассказа Э. Гуртуева старый Заурбек («Сказ о разбитом чугунке»).
«Как так могло случиться, что Заурбеку, многоликая жизнь которого была полна роковых мгновений, Создатель дозволил завершить путь так бесславно, так позорно, на проржавевшей кровати под камышовой сенью забытого миром узбекского кишлака?…» [1, с. 21-26].
Непреходящая, непреодолимая печаль и безысходность охватывают читателя с самого начала повествования, держат в напряжении. Но надежды хоть на малое послабление жизненных коллизий автор нам так и не оставляет. Уже за пределами сюжета мы понимаем, что реальность намного суровее желаемого, и «из истории не выскочишь», как говорила в своё время поэтесса Марина Цветаева.
Судьба отдельно взятого человека – это капля в людском море, но история жизни, художественно обработанная и правдиво, эмоционально рассказанная – это назидание, урок для потомков. Таково творческое кредо писателя Э.Б. Гуртуева – реалиста, психолога, мудрого наставника. Надо отметить, что творчество Э. Гуртуева всегда было интересным и востребованным читательской аудиторией, отсюда и большое внимание критиков, исследователей к произведениям писателя, в частности, к его «малой» прозе, для художественных обобщений, сравнений, переосмыслений.
Цельность творчества таких самобытных авторов как А. Теппеев, Э. Гуртуев, З. Толгуров определяется, преимущественно, особенностями их мировосприятия, их неповторимостью видения сюжетов, характеров, явлений в природе и в жизни. В то же время их герои абсолютно адекватны своему времени, эпохе. Именно это обеспечивает писателям возможность выявлять в них общественно значащие настроения, поднимать через их индивидуальные конфликты и проблемы вопросы социального плана. Это роднит творчество
Э. Гуртуева, А. Теппеева, З. Толгурова с «собратьями по перу», представителями русской школы рассказчиков - В.М. Шукшиным, Ф. Абрамовым, В. Астафьевым, В. Распутиным и другими российскими художниками слова конца XX века. Национальная литература активно «откликалась» на запросы читателей, освещая тот круг проблем, который волнует как самих авторов, так и тех, кому они адресованы. Поиск литераторами «резервных возможностей» внутри жанров, художественнопсихологическое исследование превратностей человеческих судеб, с их устремлениями и идеалами - вот что, в целом, характеризовало многонациональную прозу и поэзию в 70-80-е годы ХХ века. Неоспоримо то, что процессы универсализации являются в этих случаях импульсом для профессионального поиска авторами новых форм и способов творческой самореализации в рамках творческой соревновательности, конкурентности (в хорошем смысле данного понятия). Это - своеобразный трамплин особенно для молодых авторов, которые подпитываются не только своим языком и культурой. Ориентация на общечеловеческие информационные, цивилизационные, эстетические достижения в целом, на качественно новый уровень поднимают планку литературного мастерства новописьменных литератур. Так, к примеру, если рассматривать рассказ балкарского автора Б.Х. Кулиева «Желтолапые гуси» сквозь призму новизны, нестандартности авторских решений, которые имели своё развитие повсеместно в многонациональной российской прозе, сам автор определил произведение как лирическую прозу. Понятно, что это - новелла, но с особой сжатостью подачи материала, текстовой недосказанностью и метафоричностью, большой чувственностью и эмоциональной глубиной передаваемых ощущений: трагедия депортации глазами ребёнка-сироты, работающего в непомерно тяжёлых условиях военного времени и ждущего отца с фронта, как единственного своего заступника.
«Деревянные кресты» О. Х. Уянова - в русле художественно-документальной публицистики. Рассказ автобиографиче- ский, рассказ-быль. Но здесь нет давления фактографичности, исторической условности. Есть, прежде всего, спектр чувств и детских ощущений: от непонятной ребёнку безысходности жизненных ситуаций (периода первых месяцев депортации народа в 1944 году), беспредельной униженности положения людей, главного героя, до торжества побед сил добра над злом. «Я сидел у костра и радовался, что как много Рашид принесёт дров с корейского кладбища и всем нам будет тепло и сытно...» [2, с. 226].
Воспоминания журналиста
В.Б. Локъяева о годах депортации закономерно драматичны, однако тональность авторского повествования вселяет надежду на торжество справедливости над беззаконием. Один из рассказов так и называется «А вы ещё вернётесь, верьте мне...» (словами классика балкарской литературы – К. Мечиева). Пафосная составляющая текста достаточно необычна: эмоция реализуется в чётко ощущаемой модели, которую можно определить как юношеский максимализм, в то же время сам нарратив строится в глубоких минорных тонах, с акцентом на печаль, удручённость и психологическое напряжение описываемого. С трактовками темы переселения в текстах В.Локъяева перекликаются произведения целого ряда молодых авторов: Б.А. Берберова - рассказ «Одеяло в клетку», А. Махиевой - «Дадаш», Х.Л. Османова - «Веретено моей мамы» и др.
Проявление мобильности мышления нового поколения авторов, в синтезе со стабильной приверженностью этнохудо-жественным повествовательным традициям, не несут оттенка консервативности, ортодоксальности. Напротив, это органично вписывается в современную бытийную среду, расширяет возможности «малых» повествовательных форм социальными и эмотивными нюансами. Эти рассказы держатся на тонких психологических оттенках, на еле уловимых движениях человеческой души. Они полны драматизма, столкновения взглядов разных людей. Эти рассказы можно считать диспутами, неразрешимыми спорами вечного и прехо- дящего. Ассоциативные апеллятивы, целе-неправленно используемые авторами в ходе повествования, помогают строить собственные выводы, параллели, завершения исходя из пережитого самим читателем.
Существует и другая сторона вопроса. Это касается теории литературных приёмов, «новизны творческих инструментов». Время «донорного» развития национальных литератур осталось в прошлом, и это в полной мере осознаётся авторами. Любые формы прямого дублирования нарративных компонент сегодня могут вызвать лишь недоумение читателя. В условиях творческой конкуренции использование и представление вторичного материала не имеет шансов. Читатель ждёт и ищет в произведениях авторов именно психологической глубины подачи материала, воздействия на собственные мысли и эмоции. Отсюда, как следствие, авторы сознательно идут на нарушение традиционных канонов, создавая тексты мобильные, амбивалентные в жанровом плане, добиваясь исключительно онтологической функциональности слова без всякой оглядки на устоявшиеся нормы структурного и архитектонического построения. Такой подход требует высочайшей информационной насыщенности фразы, в конечном итоге – максимума смысловой при минимуме художественного объёма, чтобы текст можно было легко держать в сознании и читать «в один присест».
Таким образом сам механизм работы над художественным словом в течение 1980-1990-х годов ХХ века заметно усложнился. И сегодня, дистанцируясь во времени с писательскими практиками тех лет, мы можем с полным основанием утверждать, что в многонациональной, в том числе и северокавказской, есть авторы и произведения, полностью сохранившие свой потенциал воздействия на читателя, авторы, чьи тексты и в восприятии современного читателя предстают высокопрофессиональными образцами с ощутимым саспенс-эффектом – характерность времени условно нами обозначенной «второй оттепели».
Список литературы Новационные форманты национальных литератур в СССР, России, особенности литературного процесса 1980-х - 1990-х годов XX века - периода "второй оттепели"
- Гуртуев Э.Б. Азиатский дефтер. - Нальчик: Эльбрус, 1998. - 448 с.
- Здравствуй, незнакомый! Антология балкарской прозы. - Нальчик: Изд-во М.В. Котляровых, 2009. - 544 с.