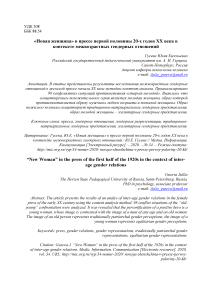"Новая женщина" в прессе первой половины 20-х годов ХХ века в контексте межвозрастных гендерных отношений
Автор: Гусева Юлия Евгеньевна
Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej
Рубрика: Социология культуры
Статья в выпуске: 34, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты исследования межвозрастных гендерных отношений в женской прессе начала ХХ века методом контент-анализа. Проанализировано 98 конфликтных ситуаций противостояния «старый-молодой». Выявлено, что олицетворением положительного героя является молодая женщина, образ которой противопоставляется образу мужчины любого возраста и пожилой женщины. Образ пожилого человека олицетворяет традиционно-патриархальные гендерные представления, образ молодой женщины - эгалитарные гендерные представления.
Ресса, гендерные отношения, гендерные репрезентации, традиционно-патриархальные гендерные представления, эгалитарные гендерные представления
Короткий адрес: https://sciup.org/147218293
IDR: 147218293 | УДК: 308
Текст научной статьи "Новая женщина" в прессе первой половины 20-х годов ХХ века в контексте межвозрастных гендерных отношений
В настоящее время существует богатая традиция анализа образов мужчин и женщин, а также гендерных отношений в средствах массовых информации как на современном материале [1-5], так и на материале начала ХХ века [5-8]. Изучение гендерных отношений происходит через анализ репрезентации образов мужчин и женщин, а также характера межличностного взаимодействия как между отдельными мужчинами и женщинами, так и между социальными группами мужчин и женщин. Понимая гендерные отношения как «различные формы взаимосвязи людей как представителей определенного пола, возникающее в процессе их совместной жизнедеятельности» [9], можно утверждать, что гендерные отношения могут проявляться и в процессе взаимодействия представителей одного биологического пола, если эти отношения являются гендерно-маркированными. Отдельного внимания заслуживает анализ одновременно и гендерных, и межвозрастных отношений. Оба типа отношений строятся на основе социальной стратификации (гендерной или возрастной), иерархизации статусов, дифференциации и детерминации ролей (мужчин и женщин или представителей разных возрастов) [9, 10]. Таким образом, мы можем говорить о межвозрастных гендерных отношениях как особой форме взаимодействия между людьми, где социальным маркером и детерминантой отношений выступает и пол, и возраст. Межвозрастные отношения могут менять статусно-ролевые позиции, типичные для гендерных отношений. Так, в традиционно-патриархальном обществе статус мужчины в целом выше статуса женщины, однако в рамках семейных отношений статус матери (пожилой женщины) может быть выше статуса сына (молодого мужчины).
«Новый» человек в советском обществе: ломая старое и создавая новое
В результате октябрьской революции изменились не только политический строй и законодательство, но и трансформировалось общественное сознание. Как известно, первые законодательные изменения произошли уже в 1917 г. и в начале 20-х гг. ХХ века были обозначены основные идеологические ориентиры Советского общества. Первые законодательные акты советского государства преимущественно были связаны с ломкой старого строя и стремлением к достижению гендерного равенства (признание церковного брака недействительным, упрощение процедуры развода, уравнивание законнорожденных и внебрачных детей в правах, введение равной оплаты труда мужчин и женщин за равный труд, получение мужчинами и женщинами равных политических и социальных права и др.). Возникновение после октябрьской революции «Нового» человека является олицетворением изменения строя, при этом, особое внимание в тот период уделялось положению женщины.
Важным моментом идеологической пропаганды являлось противопоставление старого и нового. Для периода зарождения и становления советской власти характерны четкие противопоставления через категории «хорошее-плохое». Все старые, буржуазные, законы и порядки однозначно рассматривались как плохие, а новые, советские, как хорошие. Такая «прозрачность» нравственных и идеологических принципов связана с однозначностью идеологии и морали. Прием противопоставления активно использовался и прессой. Однако противопоставления отнюдь не ограничивались категориями «советское-буржуазное», «старое-новое» и т. п. Противопоставлялись и такие социально-демографические характеристики как пол и возраст. То есть, в прессе противопоставлялись не только буржуй и пролетарий, но и мужчина и женщина, старый и молодой герои. Выявлена следующая закономерность: мужчина чаще оказывался отрицательным героем, а женщина -положительным. Точно так же герой старшего возраста чаще оказывается отрицательным персонажем, а молодой - положительным. То есть, молодая женщина оказывается самым положительным героем журналистского произведения [5].
Почему именно женщина? Попытки достижения всеобщего равенства выдвинули вперед образ угнетаемого, которому советская власть дала свободу. Это бедняк, рабочий или крестьянин, бесправие которого перед старым строем всячески подчеркивалось. Можно предположить, что особое внимание уделялось женскому образу потому, что женщины были вдвойне угнетенным классом: дискриминация осуществлялась и по классовому, и по половому признаку. Поэтому, вдвойне угнетаемый человек, юридически получивший все права, становится пристальным объектом социальной политики и пропаганды. Через образ женщины можно было показать одновременно и то, что советская власть сделала для бедняков, и что для женщин. «Новая» женщина - молодая, работающая, независимая - стала символом смены существующего ранее строя. Искусственно сконструированный образ «Новой» женщины оказался орудием политической борьбы, идеалом, к которому должна была стремиться каждая молодая женщина. Таким образом, основной акцент данной статьи делается именно на межвозрастных гендерных отношениях, транслируемых прессой, т. к. именно эти отношения и образ молодой («Новой») женщины эффективно использовался государством для пропагандистских целей в 20-е годы ХХ века.
Организация исследования. Для анализа нами были отобраны конфликтные ситуации противостояния «старый-молодой» (межвозрастные отношения). Как выяснилось, все эти ситуации олицетворяют борьбу старого и нового в советском обществе. Основной метод исследования - качественно-количественный анализ документов (контент-анализ). Использовался как количественный контент-анализ (выделялись категории и подкатегории контент-анализа, подсчитывалась частота их встречаемости и на основе этих количественных данных делались выводы), так и качественный (выводы делались на основании наличия/отсутствия в тексте определенной смысловой единицы). В качестве объекта эмпирического исследования выступают женские журналы «Крестьянка», «Работница» и «Делегатка». Изначально также планировался анализ текстов журнала «Коммунистка». Однако выяснилось, что для журнала «Коммунистка» нетипичны ситуации межвозрастного противостояния. Журнал «Коммунистка» отражает те же общественные проблемы, что и «Работница», «Крестьянка» и «Делегатка». Однако т. к. его целевая аудитория - более образованные женщины, нежели читательницы «Работницы», «Крестьянки» и «Делегатки», и журнал в целом является более политизированным, то в нем в меньшей степени используют простые приемы противопоставления. И если гендерные отношения демонстрируются «Коммунисткой», то межвозрастные представлены единичными примерами. Временной период исследования - 1923-1925 гг. Не смотря на то, что изначально нами предполагалось проведение лонгитюдного исследования (анализ журналов за 20-е - 30-е гг. ХХ века), в конечном итоге временной период был существенно сокращен. В этот период в прессе воспроизводилось в среднем 10-14 ситуаций противостояния «старое-молодое» в год. То есть, эти ситуации воспроизводились практически в каждом номере. В 1926-1929 гг. количество таких ситуаций сократилось до 5, а после 1930 г. до 1-2 за год. Единичные упоминания исключали возможность использования контент-анализа как основного метода исследования, что привело к ограничению временного периода исследования и исключения из анализа материалов журнала «Коммунистка».
Соответственно, встает вопрос, почему именно в середине 20-х годов ХХ века ситуации противостояния «старое-молодое» перестают демонстрироваться прессой. Если говорить об объективных социально-исторических предпосылках, то для первой половины 20-х гг. характерно стремление к изменению общества, а с середины 20-х гг. появлялись предпосылки тоталитарного режима и как раз примерно в этот период в прессе закончился дискурс строительства нового общества, напротив, появляется дискурс «достигнутого социализма». И одним из достижений оказались «перевоспитанные» старики. В 1923-1925 гг. было выявлено и проанализировано 98 ситуаций, в которых в той или иной степени отражены межвозрастные отношения».
Выяснилось, что ситуации межвозрастного противостояния проявляются в разных взглядах на религию (60 % ситуаций); патриархальном и эгалитарном укладе в семье и сексуальных отношениях (38 %); принятии или непринятии революционных идей, включении в общественную жизнь (31 %); принятии или непринятии идей о необходимости и значимости образования (23 %); разных взглядах на родовспоможение, воспитание детей и уход за ними (19 %); церковный и гражданский брак (18 %); крещение детей (11 %). Из 98 ситуаций в 97 случаях (99 %) старый герой олицетворяет «плохое и старое», а молодой -«хорошее и новое». Что касается пола, то в 86 % ситуациях «хорошее и новое» олицетворяет женщина, в 14 % случаях - мужчина. Из этих 14 % случаев, где мужчина олицетворяет «хорошее и новое» - в 6 случаях (т.е. почти в половине) - положительный герой - мальчик (ребенок). Таким образом, в конфликте «старое-молодое» доминирующим оказывается образ молодой женщины, на котором мы и остановимся подробнее.
Принижая, уничтожая, вытесняя старое...
В контексте межвозрастных отношений нормальным для «Новой» женщины оказывается критика старших в целом и родителей в частности в весьма жестких выражениях: «Бестолковая ты, мама» (Работница. 1924. № 16); «Стара ты стала, Петровна. Вот выгоним попа, образумишься и скажешь, что и без попа жить можно» (Крестьянка. 1923. № 12). Чувства старого человека оказывается менее значимы, чем доминирующие ценности и принципы: «После октябрин гр-не Кочетковы сняли у себя иконы, несмотря на слезы старухи матери и не стали принимать попа» (Делегатка. 1924. № 11-12). Таким образом, появляются нетипичные для медиадискурса межвозрастные отношения. Уважение к возрасту, в той или иной степени присущее почти каждой культуре, оказывается не значимым в послереволюционный период. Наиболее негативно оценивается пожилая женщина («глупая», «тёмная», «отсталая», «не умеет жить по-новому»). В данном случае происходит соприкосновение межвозрастных и гендерных отношений. Низкий статус женщины проявляется в массовом сознании и отражается в прессе, проявляясь в образе женщины, которая не принимает новый жизненный уклад. Более негативное отношение к пожилой женщине, чем к пожилому мужчине сохраняется и до настоящего времени. А. В. Микляева на материале Интернет-дискуссий проанализировала геронтостереотипы, характерные для молодежи и выяснила, что «в молодежной среде преобладают негативные геронтостереотипы, прежде всего в адрес пожилых женщин, и декларация негативного отношения к пожилым людям является «модной» [11].
Отличия видны в том, что в 20-е гг. ХХ века негативное отношение проявлялось не только в рамках межличностного общения, но и транслировалось прессой, т. е. было легализовано. В настоящее время официальная пресса скорее старается повысить статус пожилого человека независимо от пола, а негативный дискурс остается прерогативой неформального общения. Одним из способов принижения старого строя являются шутки над стариками: «Ну, бабка, готовься! Завтра и тебя поведем на новые крестины. И не Марьей звать будем, а по заграничному, или Октябриной назовем» (Крестьянка. 1925. № 18).
Пожилого человека стремятся насильно ввести в новую жизнь и даже дать новое имя как символ перерождения. Заметим, что бабка не сама идет в новую жизнь и мы даже не знаем, хочет ли она идти, ее ведут. Глагол «поведем» демонстрирует явную зависимость ведомого от ведущего. Ведут обычно ребенка, больного (немощного), старика, заключенного, слепого или человека, не знающего дорогу. В любом случае, ведущий выбирает путь и направляет ведомого. Так и бабку направляют на путь истинный, в новую жизнь. Если ведомый отказывается идти по указанному направлению, то возможным оказывается даже физическое воздействие: «Спасибо, кто-то бабку унял - в сторону оттолкнул» (Крестьянка. 1924. № 8).
Что такое оттолкнуть в сторону? Во-первых, продемонстрировать пренебрежение. Во-вторых, продемонстрировать силу. И «новое», «молодое» в дискурсе 20-х гг. ХХ века явно оказывается сильнее «старого». В-третьих, «старое» можно символично «выставить за круг», т. е. оказывается, что бабку не просто отталкивают, ее вытесняют из нового общества как пережиток прошлого. Вытеснение может быть как символическим, так и реальным, показывающим, что новая жизнь наступила для молодых, а не для стариков: «Отжили вы, старухи, свой век. Теперь мы поживем по-другому» (Работница. 1923. № 4). Старый человек и сам как будто понимает, что ему не место в новом обществе: «Ну, старуха, помирать нам с тобой надо, видно не для нас с тобой времена пришли» (Крестьянка. 1923. № 4).
Традиционно-патриархальное vs эгалитарное
Вытеснение «старого» в первую очередь связано с тем, что в прессе рассматриваемого периода старый герой является символом патриархального общества. Так, пожилая женщина стремится воспроизвести традиционную гендерно-возрастную иерархию ролей и статусов, в рамках которой молодой мужчина подчиняется матери, но угнетает жену: «Кабы Мирошка не дурак был, послушался бы материнского совета: взял бы за косы, да по избе возил, возил и на мороз вышвырнул бы еще» (Крестьянка. 1923. № 3). Однако приведенная цитата показывает, что молодой мужчина уже не воспроизводит эту систему отношений: он не слушается матери и не демонстрирует превосходство над женой. Сила родительской власти, характерная для традиционно-патриархальной системы ценностей перестает существовать. Напротив, молодежь старается всеми силами уйти от родительской власти и влияния: «Я тебе сколько раз говорила, чтобы ты не смела водиться с комсомольцами! - Да что ты, мама, пристала, что я маленькая что ли? Мне уж восемнадцатый; что хочу, то и делаю; хочу с комсомольцами водиться - и буду, ты мне не закажешь; а твои причитанья мне надоели. Это тебе не прежнее время, чтобы родители притесняли детей. Теперь все свободны» (Делегатка. 1925. № 4). В послереволюционный период формирование эгалитарных гендерных представлений и, как следствие, построение эгалитарных гендерных отношений и стало одной из государственных задач [12-14], т. к. отвечало принципам всеобщего равенства. И именно «Новая» женщина оказалась основным носителем эгалитарных представлений в прессе [5]. «Бейте! Бейте! - рыдала Айнор. Убивайте! Ни за что не пойду за Мир-Махнуда, лучше живую в землю закопайте! С отчаянием слушала несчастная мать - бессильна она была изменить волю мужа: не смеет прекословить женщина господину своему (Работница. 1923. № 6). Именно молодая женщина пытается противостоять мужчине, своему отцу, ломает традиционно-патриархальные гендерные представления, в то время как ее мать продолжает их воспроизводить, подчиняясь мужу. И не смотря на то, что в этом рассказе девушку все равно насильно выдают замуж, важен сам факт попытки противостояния, который демонстрирует пресса. Важным оказывает то, что «Новая» женщина ищет себе защиту в советских законах: «Я пожалуюсь ханум-женотделке. Я привезу в Амбизлер декрет...» (Крестьянка. 1925. № 7).
Традиционно-патриархальные гендерные представления предполагают наличие двойной морали: внебрачные сексуальные связи мужчин не осуждаются и считаются возможными, сходное поведение женщин неприемлемо. Эгалитарные гендерные представления не предполагают наличия двойной морали: сексуальное поведение мужчин и женщин не детерминировано биологическим полом. Типичным приемом демонстрации эгалитарных гендерных представления является трансляция в прессе фактов отказа от двойной морали. Прием противопоставления молодой и старой женщины в сходной ситуации позволяет транслировать тип «Новой» женщины. Рассмотрим ситуацию беременности вне брака. Старая женщина вспоминает себя в молодости: «Отдала маленького Гришу кулаку-бабе, что «приблудных» детей на прокормление брала. Платила, в свободное время навещать бегала. А все-таки трех месяцев не прошло - умер Гриша от плохого ухода, от плохого питания». Она зависит от мужчины и полностью на него полагается, в результате обвиняет во всем мужчину, который оставил ее с ребенком на руках. «Новая женщина» мысли иначе: «Почему негодяй? Я не приковывала его к себе, он был волен уйти. Но с ребенком я как-нибудь справлюсь сама. Днем он в яслях, а потом со мной». «Так вот она какая! - подумала Нина Сергеевна: сильная, смелая, умеющая приняться за всякое дело… Небось ее не сломят любовь и измена мужчины (Работница. 1923. № 6.). Основной темой сообщения является сила «Новой женщины», но глубже видны проблемы социального характера, т. к. именно советская власть дает ей возможность выстоять: у нее есть работа, уверенность в будущем, возможность отдать ребенка в ясли и, что немаловажно, она не подвергается общественному осуждению.
Пресса создает «Новую» женщину, которая расширяет свою сферу деятельности, выводит ее за пределы дома. «Поглядит Клим на невестку, диву дается. С работой управляется, с бабами возится <…> чудно старику и непонятно, как только успевает Аринка во всем. А минутка если свободная, сейчас за книгу» (Крестьянка. 1924. № 5). Особенность «Новой» женщины в том, что она успевает все: работа, дети, быт, общественная жизнь. И если в 20-е годы ХХ века - это выход за пределы приватной жизни, то в дальнейшем - формирование двойной нагрузки. В прессе 20-х гг. не предполагается включение мужчин в домашний труд. Напротив, обозначается, что и женщины в ближайшем времени будут освобождены от домашнего труда и воспитания детей за счет обобществления быта и воспитания. Соответственно, «Новая» женщина-мать с раннего возраста отдает ребенка в ясли: «А как же ты с ребенком управишься? Небось, тяжело? - Засмеялась Маня. - Ну, об этом не беспокойся. Вон, смотри! Там ясли. Там моего ребенка одевают, кормят и ухаживают за ним, когда я на заводе.» (Работница. 1925. № 7). Дети, воспитывающиеся в яслях, описываются как более счастливые, веселые, здоровые, развитые, общительные. Материнство «Новой» женщины должно было стать новым. Старое ассоциировалось с грязью, невежеством, новое - с чистотой, знанием: «Старушка подошла к люльке, вязала соску, послюнявила ее сначала у себя во рту, потом всунула ее в рот ребенку. - Что ты делаешь мама, никак жевку ребенку даешь?! - А чего ему еще!? Анюта вздохнула и покачала головой. На фабрике читали лекции об охране материнства, об уходе за детьми, и она хорошо помнила все советы лектора» (Работница. 1924. № 1).
На все воля…
«Новая» женщина ломает старые устои и ценности, например, отказывается от религии. Религия и советская власть были априори несовместимы, поэтому уже само отрицание Бога обозначало женщину как сторонницу новой власти. «Новая» женщина не ориентируется на божественную силу, скорее чувствует себя причиной всех следствий: «Как господь прикажет, так и быть, против его воли не пойдешь. Послушала эти разговоры Дарья - баба молодая, сметливая, грамотная <...> сказала: - И ни при чем тут господь, сами виноваты. Что бы догадаться, как у толковых людей делается, ясли открыть» (Крестьянка. 1924. № 8). Противостояние религии у молодых часто носит внешний характер, демонстрирует бунтарство молодежи, желание противостоять старшим и не всегда имеет смысл: «Роза и Сарра задумались. Ведь они … вот уже более двух лек, как перестали верить в бога, а от субботы все никак не могут избавиться. Нет, если уж рвать со старым, то до конца. На другой день Сарра и Роза стали поговаривать у себя на фабрике о том, что мол, махорочницы работают в субботу, так почему бы не сделать этого и нам. Большинство молодых работниц сочувственно кивали головами. А на 2-3 старых работниц, свирепо кидавших на них взгляды, они не обратили внимание. «Горбатого могила исправит» (Работница. 1923. № 6). Нет принципиальной разницы, когда не работать - в субботу или в понедельник. То есть, «Новая» женщина порой меняет порядки не из соображений целесообразности, а целью «сломать старое».
Особого внимания заслуживают формы брака. В 1917 г. церковный брак был объявлен недействительным. С другой стороны, фактический брак приравнивался к гражданскому, а, значит, и церковный брак, будучи фактическим, тоже приравнивался к гражданскому. Вот здесь была проблема. Идеология свободной любви не позволяла отказаться от признания законным фактического брака, но было необходимо уменьшить число церковных браков. Таким образом, одним из центров внимания прессы становится брак. Естественно, старики -приверженцы церковного брака, молодые - гражданского или фактического: «Аннушка соседка у колодца руками разводит: «и какая же это свадьба, все по-дурацкому, великим постом без попа, а с гармонией и плясками, да што б ноги отсохли у тех хто плясать с им пойдет!..» Другая помоложе отвечает: «Што-ж есть женятся и без попа, да хорошо живут, а то и с попом, да как кошка с собакой грызутся всю жизнь» (Делегатка. 1923. № 2). Простым, но достаточно эффективным приемом оказывается демонстрация в прессе церковного несчастливого брака: патриархальные отношения, побои и унижение женщины и равного гражданского союза. Такой союз даже старики в итоге вынуждены признать как идеальный: «Победила ты меня, ей богу. Прости, Ариша… Все считал тебя балованной… Опять же без венца… Как бы чего плохого не вышло? А тебя я теперь уважаю… Я думал… Сама знаешь, старые люди все по закону хотят… А коли, ежели вы и так дальше со Степкой будете, так лучше этого закона и не надобно...» (Крестьянка. 1924. № 5). Что интересно, пресса предлагает идеализированные модели брака. Получается, что уже сам по себе отказ от венчания - предпосылка удачного брака. А в широком смысле - отказ от старого -предпосылка счастья.
Заключение
Подытоживая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Межвозрастные гендерные отношения являются средством пропаганды нового, советского образа жизни. Пожилые герои журналисткого произведения олицетворяют собой старый, традиционнопатриархальный строй, а молодые, напротив, являются носителями эгалитарных представлений. Особое значение приобретает образ «Новой» женщины, через который пропагандируется революционные идеи, нормативность двойной нагрузки женщин, отказ от религиозных идей и обрядов, преимущества общественного воспитания и питания и санитарно-гигиенического режима. Эти идеи являются оплотом советского общества, таким образом, образ «Новой» женщины становится символом нового строя и достигнутого всеобщего равенства.
Список литературы "Новая женщина" в прессе первой половины 20-х годов ХХ века в контексте межвозрастных гендерных отношений
- Соколова, Ю.Е. Образ мужчины в современной российской газете: типологические характеристики / Ю.Е. Соколова // Гендер и СМИ. – 2012. – № 5. – С. 221-232.
- Балалуева, И. Образ женщины в современной российской прессе: этапы десятилетней трансформации / И. Балалуева // Гендер и СМИ. – 2011. – № 4. – С. 126-142.
- Воинова, Е.А. Репрезентация гегемонной маскулинности в публичном пространстве / Е.А. Воинова, Е.В. Сивякова // Гендер и СМИ. – 2018. – № 9 . – С. 33-51.
- Грошовкина, Н.А. Гендерные стереотипы: образ современной женщины в СМИ / Н.А. Грошовкина // Сборник научных трудов SWorld. – 2011. – Т. 19. – № 1. – С. 82-83.
- Гусева, Ю.Е. Влияние социально-исторических изменений в обществе на трансформацию гендерных представлений в популярной прессе: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук: спец. 19.00.05 – соц. психология / Ю. Е. Гусева. – СПб., 2007. – 23 с.
- Кирилина, А.В. Дискурсивные практики репрезентации советских женщин (тридцатые годы) / А.В. Кирилина // Язык, сознание, коммуникация сборник статей. – М., 2017. – С. 130-141.
- Ильина, М.В. Гендерная проблематика в советских СМИ 60-х годов (на примере иркутской газеты «Советская молодежь») / М.В. Ильина // Вестник Иркутского государственного технического университета. ¬– 2014. – № 2(85). – С. 246-250.
- Гусева, Ю.Е. Представленность гендерной проблематики в популярной советской прессе начала 1920-х – середины 1930-х годов / Ю.Е. Гусева // Вестник Поморского университета. Серия «Физиологические и психологические науки». – 2006. – № 3. – С. 7-11.
- Клецина, И.С. Психология гендерных отношений: Теория и практика / И.С. Клецина. – СПб.: Алетейя, 2004. – 408 с.
- Здравомыслова, Е.А. Введение. Социальная конструкция гендера и гендерная система в России / Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина // Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период. – СПб.: ЦНСИ, 1996. – С. 5-13.
- Микляева, А.В. Возрастная дискриминация как социально-психологический феномен / А.В. Микляева – СПб.: Речь, 2009. – 156 с.
- Кетлинская, В. Жизнь без контроля (половая жизнь и семья рабочей молодежи) / В. Кетлинская, В. Слепков – М., Л.: Молодая гвардия, 1929. – 110 с.
- Коллонтай, А.М. Любовь и новая мораль / А.М. Коллонтай // Философия любви. В 2-х т. Т. 2 – М.: Политиздат, 1990. – С. 323-334.
- Смидович, С. Молодежь и любовь / С. Смидович // Быт и молодежь – М.: Правда и Беднота, 1926. – С. 58-64.