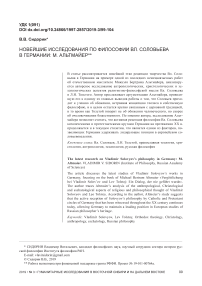Новейшие исследования по философии вл. Соловьева в германии: М. Альтмайер
Автор: Сидорин В.В.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 3 (49), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается новейший этап рецепции творчества Вл. Соловьева в Германии на примере одной из последних немецкоязычных работ об отечественном мыслителе Mикаэля Бертрама Альтмайера, анализируется авторское исследование антропологических, христологических и эсхатологических аспектов религиозно-философской мысли Вл. Соловьева и Л.Н. Толстого. Автор прослеживает аргументацию Альтмайера, приводящую его к одному из главных выводов работы о том, что Соловьев приходит к учению об обожении, встраивая концепцию теозиса в собственную философию, и в целом остается крепко связанным с церковной традицией, в то время как Толстой говорит не об обожении человеческого, но скорее об очеловечивании божественного. По мнению автора, исследование Альт-майера позволяет считать, что активная рецепция философии Вл. Соловьева католическими и протестантскими кругами Германии на протяжении XX в. продолжается и в текущем столетии, что является одним из факторов, позволяющих Германии удерживать лидирующие позиции в европейском соловьевоведении.
Вл. соловьев, л.н. толстой, православная теология, христология, антропология, эсхатология, русская философия
Короткий адрес: https://sciup.org/170175914
IDR: 170175914 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24866/1997-2857/2019-3/99-104
Текст научной статьи Новейшие исследования по философии вл. Соловьева в германии: М. Альтмайер
Владимир Соловьев – пожалуй, самая известная в европейском культурном пространстве фигура из истории русской философии. И наибольший отклик философия Вл. Соловьева получила в Германии: именно там творчество русского мыслителя вызвало многолетний интерес как в философских, так и в богословских кругах. Именно с Германией связан и выдающийся научно-исследовательский проект в области соловьевоведения, до сих пор не имеющий аналогов даже в России, – 9-томное критическое издание сочинений мыслителя под редакцией В. Леттенбауэра, В. Шилкарского, Л. Мюллера и др. (1954–1980 гг.) [13]. В рамках этого проекта не только был выполнен перевод и комментарий основных произведений Вл. Соловьева, но и появились исследовательские работы по тем или иным аспектам соловьевской философии: монография по соловьевской философии права Ганса Гельмута Гэнцеля, текстологическое исследование «Оправдания добра» Бруно Вембриса [11; 15]. Активные исследования в области философии Соловьева вели Л. Венцлер, Г. Дам и ряд других специалистов по истории русской культуры [10; 16]. После окончания проекта, ухода из жизни или выхода на академическую пенсию представителей этого поколения исследователей русской философии интенсивность немецкоязычных штудий философии Вл. Соловьева в начале XXI в. уменьшилась, позволяя, тем не менее, сохранять современной Германии одну из лидирующих позиций в области европейского соловьевове-дения. Рецепция и исследования продолжались П. Эленом, Д. Белкиным [3; 8; 9]. В настоящее время исследования философии Соловьева ведутся Р. Решикой, Х. Шталь, М. Альтмайером, что позволяет говорить о новейшем периоде рецепции его наследия в Германии [7; 12; 14]. Работа последнего «Vergöttlichung bei Vladimir Solov’ёv und Lev Tolstoj: Ein Dialog, der nie geführt wurde» («Обожение у Вл. Соловьева и Л. Толстого: диалог, который так и не состоялся»), на которой нам и хотелось бы остановиться более детально в данной статье, посвящена одной из самых интересных и обсуждаемых тем в контексте позднего творчества философа.
Отношения между философом и писателем удивляют своей сложностью и противоречивостью: с одной стороны, по-видимому, понимая и чувствуя масштаб и значимость личности друг друга, они не могли не присматриваться, прислушиваться один к другому, не пытаться выстроить сколь-нибудь ровных взаимоотношений, с другой стороны, принципиальные расхождения во взглядах с каждым годом знакомства становились все более многочисленными. А.Ф. Лосев в своей работе «Владимир Соловьев и его время» предпочитал подчеркивать негативное отношение Соловьева к Толстому, «пренебрежение» и «нелюбовь» первого ко второму, лишь время от времени смягчаемое «объективным добродушием и благожелательностью» философа [1, с. 407–413]. Однако наиболее удачно, на наш взгляд, это противоречивое взаимодействие сил притяжения и отталкивания между Соловьевым и Толстым удалось выразить К.В. Мочульскому: «Отношения между Соловьевым и Львом Толстым всегда отличались мучительной сложностью. Эти два человека были полярно противоположны друг другу, и каждая встреча их превращалась в столкновение: они почти физически не могли дышать одним воздухом. Проповедь Толстого оскорбляла самые заветные убеждения Соловьева. Учение Соловьева, его мистика, утопии, пророчества раздражали трезвого реалиста Толстого. И все же что-то притягивало их друг к другу: они сходились, чтобы угрюмо помолчать вдвоем или начать ожесточенный спор» [2, с. 204]1. При всем своем несогласии с Толстым в 1880-х гг. Вл. Соловьев предпочитал не выступать против него публично. В марте 1884 г. он признавался Н.Н. Страхову: «С тем, что Вы пишете о Достоевском и Л.Н. Толстом, я решительно не согласен. Некоторая непрямота или неискренность (так сказать, сугубость) была в Достоевском лишь шелухой, о которой Вы прекрасно говорите, но он был способен разбивать и отбрасывать эту шелуху, и тогда оказывалось много настоящего и хорошего. А у Л.Н. Толстого непрямота и неискренность более глубокие, – но я не желаю об этом распространяться» [6, I, с. 18]. Однако все большие идейные расхождения с писателем и, по-видимому, его все более усиливающееся влияние на общественность заставили философа уже в следующем десятилетии перейти к открытому противостоянию: толстовская теория опрощения стала мишенью для критики в статье Вл. Соловьев «Идолы и идеалы», а главное произведение философа в последнее десятилетие жизни – «Оправдание добра» – имело антитолстовский пафос не только в общих во- просах (критика отвлеченного субъективизма в нравственности, проблематика смысла войны), но и в многочисленных частностях2.
Содержание работы М. Альтмайера «Обоже-ние у Вл. Соловьева и Л.Н. Толстого» на самом деле существенно шире, чем можно было бы подумать, исходя из основного названия: она посвящена скорее вопросу о том, почему и как оба мыслителя, разделяя массу общих установок и интуиций, тем не менее разошлись так далеко, что их взаимоотношения приняли ярко выраженный враждебный характер. Отсюда и подзаголовок работы – «Диалог, который так и не состоялся», удачно отражающий, на наш взгляд, всю противоречивость взаимоотношений Вл. Соловьева и Л.Н. Толстого. Сама монография представляет собой дополненное диссертационное исследование автора, выполненное в 2012 г. на философском факультете Вестфальского университета имени Вильгельма II в Мюнстере под руководством профессора Центра религиозных исследований того же университета доктора Ассаада Элиаса Каттана3.
В своем исследование Альтмайер педантично (в лучшем смысле этого слова) пытается реконструировать антропологические, хри-стологические и эсхатологические аспекты творчества этих выдающихся современников и проследить, как они то сходятся, то – что случается гораздо чаще – расходятся друг с другом. В центр своего внимания автор помещает понятие «обожение», теозис. Отдельного внимания заслуживает авторская точка зрения на актуальность заявленной проблематики: Альт- майер указывает, что концепция теозиса вновь активно развивается, в первую очередь, в области экуменического диалога, настаивая на том, что в наше время переживается настоящий ренессанс патристической надежды на обожение и связанных с этим поисков ответов на вопрос о месте, роли и задаче в мире каждого отдельного человека. Но это далеко не первое возрождение концепции теозиса: исторически первым ренессансом оказывается, с его точки зрения, русская культура второй половины XIX в., что и делает, в частности, творчество Вл. Соловьева и Л.Н. Толстого в указанном аспекте актуальным и в начале XXI столетия [7, p. 16]. Интеллектуальный опыт обоих важен и самим фактом их возвращения к христианству и пафосом обновления его исторической формы существования: «В ходе своих мировоззренческих поисков оба занимались философскими вопросами и в конце концов нашли дорогу обратно к христианству. <...> Обоих двигало вперед желание сделать его [учение Христа] полезным для нужд времени и освободить православную церковь от ритуального и догматического окаменения» [7, p. 299–300].
Значительную часть своей работы Альтмайер посвящает рассмотрению антропологии Соловьева и Толстого, и из его анализа складывается впечатление, что в этой области Соловьев и Толстой, пожалуй, ближе, чем где-либо еще, хотя бы потому, что оба исходят из общих, традиционно христианских по своему происхождению интуиций, таких как вера в особое положение человека в творении, дуалистическое понимание природы человека, своеобразное оптимистическое, у Соловьева по крайней мере до определенного времени – теория развития. При этом Альтмайер обосновывает, что для Соловьева антропология играет важнейшую роль, встраиваясь в цельную космологическую концепцию, сохраняющую свое очарование и сегодня: «Антропология Вл. Соловьева и его космологическая концепция завораживают и по сей день. Исторические упрощения, выстраивание несуществующих исторических взаимосвязей и общее сомнение в отношении его обращения с религиозной и мировой истории едва ли умаляют это очарование» [7, p. 117]. Толстой же, если можно так выразиться, минимально теоретичен в вопросах антропологии, его интересуют конкретные, практико-ориентированные моменты. И можно было бы говорить об отсутствии между ними серьезного конфликтного потенциала в антропологических вопросах, если бы не одно обстоятельство – сомнения Толстого насчет воскресения из мертвых. Альтмайер считает, что это становится главной проблемой у Толстого в его антропологии, в силу чего возникает острая проблематизация смерти. Эту трудность Толстой пытается решить, с его точки зрения, двумя способами: во-первых, ему помогает признание дуалистической природы человека. Если человек делает нужный выбор и поворачивается к духовной стороне своего бытия, это помогает справиться со страхом смерти. Во-вторых, нужное решение Толстой находит в повороте от индивидуализма к коллективизму: смерть преодолевается в любви к ближнему.
Вообще стоит отметить, что реконструкция и концептуализцая взглядов Толстого представляет наиболее любопытную часть работы Альтмаейра: он совершенно справедливо подчеркивает непроясненность множества антропологических, эсхатологических, философских аспектов, лежащих в основе мировоззрения Толстого, просто в силу того, что писатель перед собой такой цели – создания целостной и непротиворечивой системы – и не ставил. Это касается и самого концепта «обожение»: Толстой даже не употреблял подобного термина, а понятие «теозис» у него можно встретить чуть ли не единожды – в полемике с митрополитом Макарием (Булгаковым). Экспликация всех этих ключевых моментов, их своеобразная инвентаризация – одна из ключевых задач, которую Альтмайер пытается разрешить в своем исследовании.
Анализ же христологической и эсхатологической концепций Соловьева и Толстого позволяет ему прийти к главному выводу своей работу. Именно в этих областях мысли Соловьева и Толстого как бы расходятся окончательно, выстраиваясь как своеобразные параллельные программы, которые могут быть сведены к общему знаменателю только в плане самых общих интенций мысли. В частности, если Соловьев выстраивает христологию, в которой в конечном итоге центр тяжести лежит на трансцендентальном, связующем значении Христа для спасения человечества, то Толстой рисует образ социально-критического, если не сказать анархически настроенного Христа. Если для Соловьева Царство Божие – это скорее космологическая цель, то для Толстого – это, в первую очередь, внутреннее состояние. Из этого следует принципиально различное отношение к церкви, при том, что критический пафос в отношении исторического христианства так или иначе разделяли оба, и к социальному идеалу: соловьевской свободной теократии, как воплощению в социальной реальности принципа всеединства, противостоят анархистские, как их именует Альмайер, довольно подробно на них останавливаясь, импульсы толстовской мысли [7, p. 296]. В итоге, если оба и исходят изначально из одной и той же точки (или точек) – например, признания дуалистичности человеческой природы и задачи перерастания материально-телесной природы человека в нечто большее, внимание к коллективной эсхатологии – результаты, несмотря на данный параллелизм намерений, оказываются совершенно различными. Соловьев приходит к учению об обожении, встраивая концепцию теозиса в собственную фундаментальную концепцию, и в целом, несмотря на множество факторов, остается крепко связанным с церковной традицией. Толстой же говорит не об обожении (Vergöttlichung) человеческого, но скорее об очеловечивании божественного (Menschensohnschaft): «…В то время как Соловьев особый упор делает на необходимости духовной жизни, Толстой предлагает радикальное этическое следование примеру Христа (radikale ethische Jesusnachfolge)» [7, p. 247].
Подытоживая свое исследование, Альтмайер указывает, что, несмотря на множество общих позиций и интенций, теологические дискурсы Соловьева и Толстого принципиально не могут быть сведены друг к другу, поскольку имеют различную природу – монистически-мистиче-скую в случае Соловьева и рационально-морализаторскую в случае Толстого. Теоретические противоречия усугублялись, приводя к неразрешимому конфликту, и тем, что оба мыслителя абсолютизировали свои позиции и не терпели никакого иного подхода, кроме своего собственного [7, p. 300].
Исследование Альтмайера интересно помимо прочего и связями автора с Германской епископской конференцией – объединением католических епископов Германии, созданным для координации церковной работы, то есть близостью к современным католическим кругам Германии. А это позволяет считать, что некогда подробно прослеженное внимание немецкоязычных – как католических, так и протестантских теологов – к философии Владимира Соловьева все еще имеет место, продолжая богатую традицию немецкоязычной рецепции творчества отечественного философа4.
Список литературы Новейшие исследования по философии вл. Соловьева в германии: М. Альтмайер
- Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. M.: Mолодая гвардия, 2009.
- Mочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. M.: Республика, 1995.
- Назарова О. Новейшая рецепция творчества Вл. Соловьева в Германии: Петер Элен // Соловьевские исследования. 2016. Вып. 3. С. 69-82.
- Свенцицкий В.П. Лев Толстой и Вл. Соловьев. СПб., 1907.
- Свенцицкий В.П. Собрание сочинений. Т. 3. Религия свободного человека. M.: Новоспасский монастырь, 2014.