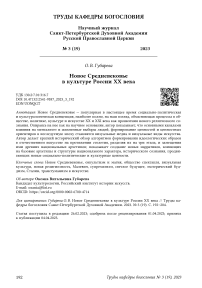Новое средневековье в культуре России ХХ века
Автор: Губарева О.В.
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теория и история культуры, искусства
Статья в выпуске: 3 (19), 2023 года.
Бесплатный доступ
Новое Средневековье - популярная в настоящее время социально-политическая и культурологическая концепция, наиболее полно, на наш взгляд, объясняющая процессы в обществе, политике, культуре и искусстве ХХ и XXI века как проявления нового религиозного сознания. Опираясь на нее как на научное основание, автор показывает, что основными каналами влияния на менталитет и жизненные выборы людей, формирование ценностей и ценностных ориентиров в исследуемую эпоху становятся визуальные медиа и визуальные виды искусства. Автор делает краткий исторический обзор алгоритмов формирования идеологических образов в отечественном искусстве на протяжении столетия, разделяя их на три этапа, и замещения ими древних национальных архетипов; показывает создание новых нарративов, влияющих на базовые архетипы и структуры национального характера, исторического сознания, продвигающих новые социально-политические и культурные ценности.
Новое средневековье, оккультизм и магия, общество спектакля, визуальная культура, новая религиозность, малевич, супрематизм, светлое будущее, эзотерический буддизм, сталин, трансгуманизм в искусстве
Короткий адрес: https://sciup.org/140301595
IDR: 140301595 | УДК: 130.2:7.01:316.7 | DOI: 10.47132/2541-9587_2023_3_192
Текст научной статьи Новое средневековье в культуре России ХХ века
About the author: Oksana Vitalievna Gubareva
Candidate of Cultural Studies, Russian Institute of Art History.
The article was submitted 26.02.2023; approved after reviewing 01.04.2023; accepted for publication 04.04.2023.
Одной из основных черт ХХ в., во многом повлиявшей на его кровавый и трагический характер, философы культуры называют новую религиозность1. Европейское увлечение в XIX в. историей Средних веков, ее романтизация в литературе и искусстве, интерес к архаике, собирательство древностей, — все это можно рассматривать как прелюдию, подготовку к переходу мира в новую историческую фазу, которую все чаще называют Новым Средневековьем. От просвещенного рационализма, с его кантовской моралистикой и послушной долгу религией, мир перешел на новый виток мистической напряженности и религиозных поисков.
В ХХ в. каждый убежденный атеист и борец за науку, социальную справедливость и либеральные свободы превратился в проповедника своей религии, фанатика собственной «истины». Традиционные религии стали уходить на второй план, вперед выдвинулись как различные оккультные теории, с собственной онтологией, так и примитивные магические представления. Соответственно возникли политические религии — коммунизм, нацизм, фашизм, либерализм, а также получили популярность астрологи, гадалки и предсказатели, колдуны и каббалисты. Вслед за ростом религиозных учений стали меняться и социально- политические устройства государств, воспроизводя псевдосредневековые, уродливые социально- политические формы. В новом веке проводником этого религиозного мироощущения, инструментом влияния становится не литература (хотя она активно участвует), а визуальные искусства: кино, театр, живопись и плакат. В культурный европейский дискурс возвращается понятие средневековой зрелищности2.
Все культуры имеют визуальный аспект, который занимает важное, часто определяющее место при воссоздании их исторического облика. Но не в каждой культуре он фиксируется человеческим сознанием как главный, важнейший аспект социокультурного бытия. В христианском Средневековье, особенно в православных странах, визуальность впервые стала местом метафизических откровений и рефлексий, герменевтических интуиций, утонченных и глубоких связей с философией и богословием3. Визуальный образ превратился в живое коммуникативное средство общения человека с Богом и духовным миром, где Бог показывал себя человеку, а человек предстоял Ему.
Личностная обнаженность человека была яркой чертой старого средневекового общества. Жизнь человека протекала на виду, по заранее заданному сценарию. Каждое событие было точно срежиссированным сложным обрядовым церемониалом: рождение, похороны, праздники, сельскохозяйственные работы, торговля, внутрисемейные отношения и т. д. Даже казни являли собой страшный спектакль.
С начала ХХ в. все сферы общественной и частной жизни также начинают выставляться напоказ и регулироваться обществом. Формируется «общество спектакля»4, и визуальная культура повсеместно получает взрывное развитие. Постхристианский человек обретает новые образы-посредники: кинематограф, агитационные плакаты, портреты вождей, политическое искусство, фотографии, газеты, журналы, а затем и телевидение. Но эти изображения не имеют анагогических целей, не возводят личность через созерцание Красоты и Гармонии к Богу. Они — посредники другой силы, средство манипуляции, служители квазирелигиозной5 системы «спектакля», создающей иллюзию гармоничного мироустройства: «Влияние спектакля на действующий субъект выражается в том, что поступки субъекта отныне не являются его собственными, но принадлежат тому, кто их ему предлагает»6.
В России перформативный характер новой религиозности ярко и агрессивно начинает проявляться после 1917 г. Публичные выступления лидеров, шествия, демонстрации, театральные постановки на площадях, огромные монументы и гигантские живописные полотна с образами вождей стали в советской России частью не только городской, но и сельской культурной среды. Именно в это время сформировалось четкое понимание социальной значимости визуального искусства и его огромных идеологических, воспитательных и манипуляционных возможностей; понимание того, что искусство не столько отражает действительность, сколько формирует ее, является проводником не столько эстетики, сколько этики и идеологии.
Благодаря открытиям в психологии в Европе и Америке в первой четверти ХХ в. начинает разрабатываться система использования искусства различными идеологическими системами. Эти разработки сразу попадают в советскую Россию. Об интересе Л. Д. Троцкого7 и других советских лидеров к работам З. Фрейда и использование идей психоанализа в деле агитации и пропаганды хорошо известно8. Здесь делались опережающие открытия9. Троцкий писал: «Выпустить новое, “улучшенное издание” человека — это и есть дальнейшая задача коммунизма»10. При участии Л. Д. Троцкого и А. В. Луначарского была сформулирована четкая идеологическая доктрина нового искусства, которая сразу начала воплощаться.
На протяжении всей истории искусства художники создавали в своих произведениях образ действительности, в которой человек узнавал себя, знакомых ему людей, жизненные ситуации. Это пробуждало чувство родного дома, родной земли, определяло этические идеалы и т. п. В этом ракурсе западные произведения эпохи Возрождения и православные иконы отличались духовно- эстетическим пониманием того, где находится Отечество, дом, человеческое сердце. В начале ХХ в. искусство стало другим: художники-авангардисты перестали искать вдохновение в созданной Богом Вселенной. Они захотели создавать искусство, которое изменит мир по придуманному ими мистическому шаблону. И этим воспользовались политики.
Нельзя сказать, что прежде такого не случалось. Первым экспериментом по целенаправленному воздействию на людей средствами искусства можно назвать проект иезуитов времен Контрреформации, когда были созданы каноны академического искусства. То же самое сделал Петр Великий, сопроводивший свои реформы насаждением новых визуальных образов. Но все предыдущие проекты не были столь радикальными, как коммунистический, который своей целью имел полное уничтожение старого мира и через это — изменение человека11.
Безусловным лидером и видным деятелем коммунистического искусства в первое послереволюционное десятилетие был Казимир Малевич. Именно его художественные идеи были использованы большевиками как сильнейшее нравственно- эстетическое оружие. Малевич воспринял марксистско-л енинское учение об экономических формациях как религиозную доктрину о божественной экономике, которая управляет иллюзорно- предметным миром, и назвал ее супрематизмом. В этом странном оккультном конструкте искусство заняло место венца религиозно- экономической вершины (Малевич всегда писал слово «искусство» с заглавной буквы). «Черный квадрат» должен был закрыть мир прошлого, с его божественным Откровением о человеке, и стать основанием для нового мира12. Из супрематического мироздания изгонялось всякое чувство, и человеку отводилась роль детали в слаженном экономическом механизме: «землянита», живущего в «планитах» среди архитектонов и геометрически правильных предметов. Осознание себя частью механизма рассматривалось как религиозное действо, как «крещение» в новую веру. Малевич писал: «Миропомазание человека сохраняет его от зла-порчи. Помазание машины маслом сохраняет ее от гибели, ржавчины»13. Это духовное перерождение человека блестяще визуализировано в балете «Болт» (музыка Д. Д. Шостаковича, хореография Ф. В. Лопухова). Красные полотнища, закрывающие исторические здания в годовщины Октября, агитационные плакаты и памятники Ленинского плана монументальной пропаганды по всей стране, графика советских лозунгов, росписи агитпоездов, агитационный фарфор и первый мавзолей Ленина, сложенный из кубов, а также другие яркие явления революционной эпохи имеют прямую связь с супрематизмом Малевича.
После смерти Ленина в 1924 г. Малевич попытался участвовать в создании нового религиозного культа вождя. Именно ему принадлежит термин «ленинизм» и идея замещения ленинизмом христианства во всех его вероучительных, организационных и обрядовых проявлениях, создание красных уголков и новых советских ритуалов14. Малевич писал: «После смерти Ленина, или Его, за нас умершего, ленинисты должны следовать Ему и пасть в дальнейшем за Него, чтобы приобщиться к нему»15, «логика поведет своей железной дорогой и укажет, что все, похороненные в могиле, павшие за материализм, временно пребывают вне вечности, как некогда пали праведные, и Христос их ввел в свое вечное царство, они станут вместе с Ним (Лениным. — О. Г. ) в кубе царства вечности, как с Христом, и воссядут с Ним в царстве Его нового учения. Образовалась новая вечность Его рая, и символ этого рая новой вечности есть куб, это уже не рай с деревьями или в облаках, а рай геометрический. Куб как завершение всех шумов и невзгод, которые были потому, что были одномерны, двухмерны и трехмерны, они шли во всех учениях и наконец в коммунизме должны дойти до последнего кубатурного организованного куба, куба вечности, т.е. покоя»16. Куб стал образом совершенной божественной сущности, религиозным образцом для нового человека, мистическим телом механического космоса, этическим и эстетическим эталоном.
Религиозная концепция Малевича оказала огромное влияние на всю мировую культуру, став визуализацией марксистских идей и превратившись в мистический ориентир современного трансгуманизма. В Советском же Союзе имя Малевича на долгое время была вычеркнуто из истории культуры, его формалистические художественные идеи запрещены, однако религия ленинизма со священством экономической материи, особенное почитание визуальных искусств, придуманные им ритуалы прочно укрепились в его общественной системе.
После смерти Ленина политика в отношении авангардного искусства в СССР резко изменилась. Использовав его визуальную мощь для разрушения образа старой России, вставший во главе государства Сталин начал создавать новые религиозные догматы и строить новую государственную машину, для чего потребовалось совсем другое искусство.
С 1926 г. в СССР начал формироваться новый культурно-религиозный код, и искусство вернулось к изобразительному реализму, к привычной системе, как бы воспроизводившей реальный мир. Но мир этот не был реальным: была сформирована система новой идеальности, как в академизме. В произведениях советских художников стала создаваться картина совершенного общества, гармоничного, равноправного, справедливого, места жизни советского человека — сильного, трудолюбивого, верного ленинца, безжалостного к врагам коммунизма. Образ был найден, и глядя на картины, просматривая фильмы тех лет, даже современный зритель попадает под его обаяние, поверит в его реальность.
Запечатленные на картинах, показанные в кино рабочие великих строек, ученые, совершающие открытия, учителя в чистых и светлых классах, спортсмены, совершающие рекорды, — все это позволяло человеку ощутить себя и свою жизнь причастной жизни большой и великой страны, почувствовать свою значимость и ценность. Чувство причастности вызывало гордость за Родину, желание соответствовать ее идеалам и целям, и человек добровольно утрачивал собственную индивидуальность, сливался с коллективом. Искусство создавало образец для подражания, и через художественные образы, выраженные невербальным языком, транслируемые идеи проникали в общество и приживались в нем. Искусство начало воздействовать как контекстная реклама, сделавшись проводником новых религиозных взглядов, более простых и понятных, чем супрематизм. В новой сталинской парадигме Ленин был определен не как бог, а как учитель и вождь мирового пролетариата.
В современной культурологии сравнение коммунистической идеологии с христианством превратилось в общее место. Утвердилось представление о том, что большевики клонировали институты и ритуалы Православной Церкви и в сталинский период продолжали их поступательно развивать. Скорее всего это связано с тем, что подобные отсылки присутствуют не только в литературном творчестве Малевича, но и в более авторитетном тексте, ставшим знаковым для философии культуры ХХ в. — очерке Н. Бердяева «Новое средневековье (Размышление о судьбе России)»17.
Портреты вождей — иконы, демонстрации — крестные ходы, партсобрания — литургия, красный уголок — красный угол и т. д. Кажется, что сопоставления очевидны. Но, на наш взгляд, это не совсем верно. С 30-х годов место Ленина-«Христа» в новом искусстве занял другой, далекий от христианства духовный идеал, лишенный антропоморфных черт — образ Великого пути.
К 1926 г. в СССР система новой религиозной идеологии завершает свое формирование. И всякие другие религии, как традиционные, так и «авторские», оказываются враждебными и ненужными. Начинаются репрессии, и наиболее жестокие — против православия. Сразу после прихода к власти И. В. Сталин создает «Союз безбожников СССР для борьбы с религией», который затем был переименован в «Союз воинствующих безбожников». С 1928 по 1932 гг. проводится раскулачивание, ставшее тяжелым ударом по православной крестьянской культуре. После этой массированной «подготовки» объявляется первая «безбожная пятилетка». С нее начинаются массовые репрессии верующих и уже не стихийное, а планомерное разрушение храмов. И на этом фоне формируется довольно странный культ личности вождя, который возможно понять только в категориях восточной эзотерики.
В это время в Европе и России среди политической и творческой элиты получил распространение буддистский модернизм — буддизм, лишенный обрядовых форм18. Можно предположить, что в СССР ему придали материалистическую конкретность, адаптировали к существующим в стране православным реалиям, и представили как новую идеологию. Прямых свидетельств этому нет, но заметить это позволяет сложившая форма культа Ленина и Сталина и искусство того времени, ставшее действенным орудием правящей партии в утверждении новой квазирелигии.
После создания новой, сталинской религиозной парадигмы в любой общественной организации и на улице обязательными становятся не только портреты Ленина и Сталина, но и транспаранты с цитатами из их книг, плакаты с крылатыми фразами, появляются сборники канонических текстов (Сталин «Краткий курса истории ВКП (б)»19). Ленин начинает прославляться как великий учитель и вождь (водитель), как разрушитель, а не созидатель, как тот, кто разрушил темное царство и указал из него путь, осветив дорогу учением. Если прочитать каноническое описание добродетелей Будды, то становится очевидным, что религиозный портрет Ленина создавался именно по его образцу: «выдающиеся воззрения, выдающийся разум, выдающиеся способности проповедования, выдающиеся способности ставить людей на правильный путь». Он «правильно учит о зле и добре, о правде и неправде», «учит правильному пути и ведет всех людей по одному пути к просветлению» (светлому будущему). Он «чужд гордости и кичливости, верен Своим словам»20 (прост как правда) и т. д.
Советские общество разделилось по буддистскому принципу на вождей, учителей и простых людей, которые должны были их обслуживать21. Подвиг простых людей состоял в отказе от всех индивидуальных устремлений, подчинении воле вождей и осознанном соединении личных целей с целью коллектива, с товарищами, идущими верным путем. В искусстве, особенно в кинематографе, это нашло отражение в трансформации средневекового сюжета «путь героя». В новом прочтении герой- одиночка, сбивающийся или не могущий найти правильную дорогу, обретает путь в коллективе. В качестве примера можно привести знаковые для эпохи фильмы «Юность Максима», 1936 г. (реж. Г. Козинцев и Л. Трауберг), «Светлый путь», 1940 г. (реж. Г. Александров). В живописи получает развитие социальный портрет, отражающий разделение общество на работников и вождей. Рабочие, инженеры, ученые изображались на своем рабочем месте в будничной одежде, вожди же, напротив, представлялись в парадных облачениях, часто с простертыми указующими руками. Также вождей изображали в момент выступления с трибуны или окруженных восторженной толпой. Например, картина «Сталин и члены политбюро на маневрах» Д. Кордовского (1933 г.), «Ленин на трибуне» (1930 г.) и «Портрет И. В. Сталина» (1939 г.) А. Герасимова и др.
В фильме «Ленин в Октябре» М. Ромма (1937 г.) образы Ленина и Сталина выстраиваются как пара «учитель — ученик». Сталин в фильме почти не появляется, но две сцены с ним имеют знаковый характер. Первая, в самом начале, когда Ленин обнимает Сталина и произносит установочную фразу: «Ну что же, в путь», и последняя, в заключительных кадрах, когда Сталин встает за спиной вождя на трибуне. Он оказывается рядом, но на шаг сзади в тот самый момент, когда вождь объявляет толпам народа: «Революция, о которой так давно говорили большевики, свершилась», и простой солдат, восхищенно глядя на Ленина, восклицает: «Обыкновенный!» Перед нами великий вождь, объявляющий о разрушении старого несправедливого мира, протягивающий вперед руку, указующую Великий путь, — «чуждый гордости и кичливости, верный Своим словам», и его такой же скромный последователь, первый среди равных.
Буддистский религиозный проект, грозивший полным уничтожением православия и православной культуры в России, просуществовал недолго. Он был разрушен Великой Отечественной войной. В это время идеологическое отношение к добру и злу, свойственное ленинско-сталинской эпохе — буддийское принятие зла как естественной стороны жизни, — полностью сменяется христианским. Между добром и злом появляется четкая граница, понятие добра нравственно конкретизируется. Меняется и отношение к человеческой личности, появляется осознание ее индивидуальной ценности. Евангельские аллюзии наполняют вечными смыслами лучшие произведения литературы и искусства военного и послевоенного времени, рассказывающие о жизни рядовых людей, их личностных духовных поисках и жертвах. Это, в первую очередь, романы, художественные фильмы, посвященные войне, преданности своей профессии, служении людям: «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, трилогия Юрия Германа «Дело, которому ты служишь», экранизированная в 1958 г. Иосифом Хейфицем, фильмы «Неоконченная повесть» Фридриха Эрмлера, «Весна на Заречной улице» Феликса Миронера и Марлена Хуциева и другие.
Возвращение христианских ценностей в культурный дискурс не было оставлено без внимания правящей партией, и в 1961 г. на XXII съезде КПСС был принят Моральный кодекс строителя коммунизма. Его автор, Ф. М. Бурлацкий, вспоминал, как сочинял его с журналистом Е. И. Кусковым: «И мы стали фантазировать. Один говорит “мир”, другой — “свобода”, третий — “солидарность”^ Я сказал, что нужно исходить не только из коммунистических постулатов, но и также из заповедей Моисея, Христа, тогда всё действительно “ляжет” на общественное сознание. Это был сознательный акт включения в коммунистическую идеологию религиозных элементов. Буквально часа за полтора мы сочинили такой текст, который в Президиуме ЦК прошел на “ура”»22. Именно тогда советская история и коммунистическая идеология стали превращаться в зеркальное отражение христианства, и вновь появился образ Ленина-«Хри-ста». Основанный на христианских нравственных ценностях «Моральный кодекс» стал неотъемлемой частью жизни, нормой общества. Его отражение мы видим в произведениях искусства повсюду — это идея мученичества, жертвенной любви, вера в добро, в преображение человека, милосердие, возрастание ценности семейной жизни и жизни каждого конкретного человека, приподнятость над бытом. Только все это теперь усвоено коммунизму. История Гражданской вой ны переписывается в новом, христианском ключе.
Одним из наиболее ярких и последовательных образов христианизированных революционеров был создан в фильме «Первороссияне» (1967) Е. Шиф-ферса, рассказывающем о становлении Советской власти в Сибири. Фильм полностью построен на визуальных параллелях с иконописью и фреской. С помощью цвета, задержки камеры на лицах коммунаров, представленных всегда на условном горящем фоне, игрой с пространством Шифферс создает образы новых «святых» — апостолов великого Ленина, мучеников и праведников, принявших невинную смерть за идею любви к человечеству. Апофеозом созданного режиссером исторического перевертыша стал образ распятого старообрядцами коммунара, который, умирая, выкрикивает слово «хлеб», глядя на горящее поле. Данный фильм в силу своей пропагандистской прямолинейности и перегруженности символами был забыт. Но сформулированные в нем идеи — подхвачены и развиты в тысячах других произведений. Слияние, хотя бы и в виде перевертышей, коммунизма и православия привело к появлению в XXI в. неожиданного идеологического конструкта — православного коммунизма, и специфического, отражающего его идеи религиозного искусства.
После крушения СССР в России стал развиваться западный либерализм — трансгуманистическая религия, впитавшая в себя, трансформировавшая и развившая ранний авангардистский проект23. С этого времени советский авангард стал утверждаться как высшее достижение русской культуры. Произведения авангардистов, в первую очередь Малевича и его учеников, сделались визитной карточкой центральных музеев. Государствообразующим бизнесом и государством начали поддерживаться и новые поставангардные художественные проекты. Одновременно с этим меняется облик массовой визуальной культуры. Происходит разрыв между элитарным трансгуманистическим искусством и массовым, который становится рассадником эзотерики. Именно в это время эпитет «Новое Средневековье» становится одним из наиболее часто употребляемых по отношению к культуре.
После эссе Умберто Эко24, в котором он обозначил средневековые черты современной цивилизации, явление Нового Средневековья на Западе стало интенсивно изучаться. Западные исследователи культуры показали, что средневековые отношения уже давно заняли свое место в политической и общественной жизни, проникли во все сферы человеческой деятельности, стали частью менталитета современного человека25. Было проанализировано своеобразие новой религиозности: «Ее проявления, например, мистический опыт, надо искать не столько в современной церкви, сколько в эмоциональных переживаниях бейсбольных болельщиков. Бейсбол, по словам Вайсл26 — это сегодня то место, где канонизируются святые, где продолжает жить практика паломничества и почитания реликвий»27.
Во второй половине ХХ в. в США стала развиваться когнитивная психология, изучающая все, что связано с приобретением, структурированием, использованием и воспроизведением информации человеком. К 90-м гг. она стала прикладной наукой для создания новых визуальных образов массового искусства. Вслед за созданием концепции Нового Средневековья медиавизуальное пространство плотно заполнилось психологически продуманными фантастическими инопланетными и псевдоисторическими мирами, картинами киберпанка, выстроенными по средневековым правилам. Эти квази- средневековые образы стали действенными проводниками либеральной политической рели-гии28. Те же образы заполнили и российское медиапространство, не устоявшее перед аттрактивно-к оммуникативной мощью Голливуда29.
Трудно не заметить, что все они (фильмы, сериалы, игры, цифровое искусство и проч.) до сих пор визуализируется только в средневековых реалиях Западной Европы и Дальнего Востока (Китая и Японии). Причем существует очень разный контент — не только веселый, но и героический, и даже драматический. Снято огромное количество дорогостоящих фэнтэзи фильмов и сериалов, представляющих некую средневековую западноевропейскую реальность (например, «Ведьмак», «Игра престолов» и др.), где говорится о высоких чувствах, жертвенности, любви, — без иронии, с античным трагическим пафосом. Прекрасные костюмы, декорации, сценарии, — тщательно выстроенная картинка, очищенная от христианства, наполненная магией и трансгуманистической идеологией.
В сложной картине культурного ландшафта России нет даже этого, — присутствует все, кроме отечественного Средневековья. Древняя Русь в России оказалась «за скобками». Иконопись, храмоздательство, православное прикладное искусство заявлены как узко конфессиональное явление и вычеркнуты из общекультурного дискурса.
Больше ста лет образ русского православия вытесняется из национальной культуры квазирелигиями с помощью ангажированного искусства и визуальных «артов». Оккультизм (либерализм), эзотерический буддизм (сталинизм), «христианский» коммунизм — все это явления, никуда не исчезнувшие из культуры России, поддерживаемые соответствующими визуальными образами. Имея характер религиозного исповедания, они находятся в состоянии напряженного противостояния. Это реалии Нового Средневековья, вне контекста которого понять современную культуру и искусство невозможно, как невозможно осмыслить и бороться за сохранения подлинных, восходящих к православию, традиций и ценностей.
Список литературы Новое средневековье в культуре России ХХ века
- Бердяев Н.А. Новое средневековье // Его же. Философия творчества, культуры и искусства. Т. I. М., 1994.
- Бобринская Е.А. Русский авангард: истоки и метаморфозы. М.: Пятая страна, 2003. 302 с.
- Гончаренко Н.М. Трансгуманистический тренд в современном визуальном искусстве // Человек. 2014. № 3. С. 77-91.
- Губарева О. В. Икона как искусство. Эстетические традиции русской иконописи и современная визуальная культура. СПб: Аргус СПб, 2022. 356 с.
- Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М.: Искусство. 1990. 395 с.
- Дебор Ги. Общество спектакля. М.: Опустошитель, 2018. 220 с.
- Демшина А. Ю. Визуальные искусства в ситуации глобализации культуры: институциональный аспект. СПб., 2010. С. 190
- Жидков В. С., Соколов К. Б. Искусство и картина мира. СПб.: Алетейя, 2003. 463 с.
- Ивонина О. И. Концепция Нового Средневековья Н. А. Бердяева // Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 63. С. 123-129.
- Ищенко Е.Н. «Визуальный поворот» в современной культуре: опыты философской рефлексии // Вестник ВГУ. Серия: Философия. 2016. № 2. С. 16-27.
- Кино и коллективная идентичность: монография / Под общ. ред. М. И. Жаб-ского. М.: ВГИК, 2013. 300 с.
- Маклюэн М. Понимание медиа. Часть II. Глава 32. Оружие. Война икон // URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3528/3561 (дата обращения: 21.02.2023).
- Малевич К. С. Из книги о беспредметности. Раздел 1. Формулы супрематизма // Его же. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5: Произведения разных лет: Статьи. Трактаты. Манифесты и декларации. Проекты. Лекции. Записи и заметки. Поэзия. М.: Изд-во Известия, 2004. 619 с.
- Малевич К. С. У-эл-эль-эл-ул-те-ка. Нота людям 16 июля // Его же. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5: Произведения разных лет: Статьи. Трактаты. Манифесты и декларации. Проекты. Лекции. Записи и заметки. Поэзия. М.: Изд-во Известия, 2004. 619 с.
- Маяковский В. В. Доклад о художественной пропаганде на первом всероссийском съезде работников РОСТА 19 мая 1920 г. // Новое о Маяковском. Сборник материалов. Т.1: Неизданные выступления Маяковского 1920-1930гг. М.: Акад. наук СССР, 1958. 630 с.
- Нуреев Р. М. Краткий курс истории ВКП(б) в кривом зеркале партийной пропаганды // Journal of Institutional Studies. 2011. № 1. С. 83-92.
- Рехт Р. Верить и видеть. Искусство соборов XII-XV веков. М.: Издат. дом ВШЭ, 2014. 352 с.
- Рыжов Ю.В. Ignoto Deo: Новая религиозность в культуре и искусстве. М.: Смысл, 2006. 328 с.
- Савицкий Е.Е. Критерии новизны в историографии 1990-х годов: На примере «нового медиевализма»: дис. ... к.и.н. М., 2006.
- Синнут А.П. Эзотерический буддизм. Учение Будды. М.: Золотой век, 1995. 325 с.
- Тарабукин Н. Изобретательность в плакате // Горн. 1923. Кн. 9. С. 125-134.
- Тарабукин Н. Искусство дня. М., 1925.
- Третьяков С. Обработка лозунга // Горн. 1923. Кн. 9. С. 117-123. URL: https:// electro.nekrasovka.ru/books/4279/pages/136 (дата обращения: 23.02.2023).
- Троцкий Л.Д. Литература и революция. М.: Политиздат, 1991. 399 с.
- Троцкий Л.Д. Сочинения. Сер. 6: Проблемы культуры. Т. 21. М.; Л., 1927. 520 с.
- Федор Бурлацкий: «Судьба дала мне шанс». Беседа главного редактора журнала «Российский адвокат» Р. А. Звягельского с известным политологом, ученым и писателем Ф. М. Бурлацким // Российский адвокат. 2007. № 5.
- Шилкина И.С. Психоанализ в послереволюционной России (1920-1930-е годы) // Россия и современный мир. 2019. № 3 (104). С. 108-129.
- Эко У. Средние века уже начались // Иностранная литература. 1994. №4. С. 258-267.
- McMahan D.L. The Making of Buddhist Modernism. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2008. 299 p.
- Tillich P. Christianity and the Encounter of the World Religions. New York; London, 1963. 47 р.
- Weisl A. J. The Persistence of Medievalism: Narrative Adventures in Contemporary Culture. N.Y., 2003. X, 277p.