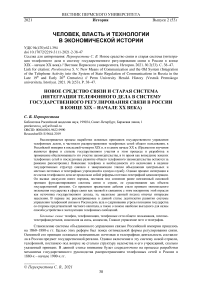Новое средство связи и старая система (интеграция телефонного дела в систему государственного регулирования связи в России в конце XIX - начале XX века)
Автор: Перекрестова С.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Человек, власть и технологии в экономической истории
Статья в выпуске: 2 (53), 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается процесс выработки основных принципов государственного управления телефонным делом, в частности распространением телефонных сетей общего пользования, в Российской империи в последней четверти XIX в. и в самом начале XX в. (Предметом изучения являются форма и степень государственного участия в этом процессе и разработка и применение обеспечивавшего это участие законодательства, в то время как возведение земских телефонных сетей и последующее развитие общего телефонного законодательства остаются за рамками рассмотрения.) Появление телефона и необходимости его включения в ведение государственных структур совпало с завершающим этапом объединения центральных и местных почтовых и телеграфных учреждений в единую службу. Однако процесс интеграции в ее состав телефонного дела не продолжил собой реформы почтово-телеграфной администрации. Он вызвал дискуссии иного порядка, поставив под сомнение ранее неизменный основной принцип функционирования системы связи в стране, ее существование как объекта государственной регалии. Со временем предметами дебатов стали принцип монопольного положения государства в сфере связи как таковой и связанное с этим восприятие этой отрасли как источника государственного дохода, то, насколько данный подход отвечал интересам населения. В первые же рассматриваемые в данной статье десятилетия развития системы управления телефонной связью в России речь шла о сдерживании угрозы позициям государства со стороны представителей частного капитала, а также о поиске наиболее выгодного для казны способа устройства и эксплуатации телефонных сообщений.
Телефон, телефонизация, телефонные сети общего пользования, почтово-телеграфная регалия, монополия на связь, концессии, главное управление почт и телеграфов
Короткий адрес: https://sciup.org/147246366
IDR: 147246366 | УДК: 94(470):621.394 | DOI: 10.17072/2219-3111-2021-2-38-47
Текст научной статьи Новое средство связи и старая система (интеграция телефонного дела в систему государственного регулирования связи в России в конце XIX - начале XX века)
В своих изысканиях мы опираемся преимущественно на модернизационный подход при широком понимании модернизации как всеобъемлющей перестройки всех сторон жизни общества при постоянном взаимовлиянии ее элементов. Мы имеем в виду те положения этой теории, что позволяют рассматривать вопрос о развитии системы управления связью на фоне общегосударственной модернизации страны и в политическом, и в экономическом, и в социальном ее преломлениях. Они также позволяют не просто обозначить факт интеграции телефонных сообщений в жизнь российского общества как очевидное проявление общего прогресса, поскольку процесс этот выглядел не столь однозначно, но провести более внимательный анализ предпринятых в этом отношении шагов.
Именно теорию модернизации современный историк электросвязи М. С. Высоков выделяет как одну из важных методологических установок. Рассматривая зарождение и интеграцию электротехнических средств сообщения в соответствующем контексте, он затрагивает и телефон, освещая ход телефонного строительства в России и уделяя внимание роли частного капитала [ Высокое , 2004, с. 275-303]. С другой стороны, в трудах этого и некоторых других исследователей, рассматривающих вопросы телефонизации в рамках не только технического, но и политического и социально-экономического развития страны, основное внимание уделяется общественной, но не правительственной стороне связанных с этим дискуссий. В связи с этим принимавшиеся решения по большей части лишь констатируются, без специального анализа причин их принятия и выявлявшихся на правительственном уровне позиций и противоречий, в отличие от воздействия этих решений на регулировавшийся ими предмет [ Фролова , 2010, с. 37-43; Борисова, 2017, с. 67–69; и др.]. Зарубежные же исследования, затрагивающие вопросы правительственной политики в отношении телефонизации, построены на национальном материале.
Первые попытки применения телефона начались в России в конце 1870-х гг. Первоначально речь шла об экспериментах Телеграфного департамента над устной передачей содержания телеграмм с помощью телефона, но по телеграфным проводам (РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. Д. 4978. Л. 1-1 об., 4-5). Впрочем, телефон недолго оставался одним из «вспомогательных те-леграфических приспособлений». Уникальный по простоте его использования не имевшими отношения к телеграфной технике людьми, он быстро привлек к себе внимание. Так, представители деловых кругов настаивали на предоставлении им разрешения проводить телефонные линии для собственных нужд, не дожидаясь выработки законодательства на этот счет. Между тем, поскольку деятельность учреждений связи была в России предметом государственной регалии, почтово-телеграфное ведомство не могло самоустраниться от решения телефонного вопроса. Однако первоначально оно заняло довольно мягкую позицию, чему способствовала все та же новизна изобретения (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 259. Л. 5–6 об.). По предложению министра почт и телеграфов Л. С. Макова, 27 февраля 1881 г. было разрешено «в виде опыта» удовлетворять прошения о проведении телефонных линий для личных нужд (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 55, № 61921). Л. С. Маков не сомневался в том, что телефонное дело оставалось подотчетным его ведомству: строительство любого такого объекта могло начаться только по получении одобрения Телеграфного департамента (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 259. Л. 5 об.). Одного важного элемента государственной монополии в этой схеме все же недоставало: не оговаривалось поступление в казну доходов от их эксплуатации (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 259. Л. 20). Впрочем, условие о возведении линий исключительно для собственных нужд не предполагало получения их владельцами коммерческой выгоды.
Учитывая опыт развития почтово-телеграфной отрасли и официальное восприятие телефонных аппаратов как усовершенствованных телеграфных, решение вопроса о сетях общего пользования оказалось несколько неожиданным. 25 сентября 1881 г. было утверждено Положение Комитета министров, согласно которому их устройство передавалась в руки частных предпринимателей. Контрагенты обязались передавать в пользу казны 10 % от валового дохода, т.е. от абонементной платы, полученной от частных лиц, и 5 % - от правительственных и общественных учреждений. Выбор концессионеров и надзор за их деятельностью оставались за Телеграфным департаментом. Он обязался не выдавать концессии другим лицам в городах, «занятых» концессионером, но при условии поддержания последним линий в порядке и их усовершенствования за собственный счет. По истечении 20-летнего концессионного срока сети безвозмездно переходили в распоряжение казны. Приступить к их выкупу можно было по истече- нии 7 лет с момента их ввода в эксплуатацию (ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 1, № 414). Таким образом, государство, не рискуя вложением средств в неизвестную отрасль, обеспечивало себе получение гарантированного дохода и возможность составить представление о ее рентабельности. Возможность эта представилась довольно быстро: первые пять городских телефонных сетей были открыты первым концессионером – Международной компанией телефонов Белла – уже в 1882 г. [Борисова, 2017, с. 67].
Позже много говорили о том, что эта компания обосновалась в области российских телефонных сообщений чуть ли не насильно, причем на положении конкурировавшей с правительственной монополии. Действительно, форма участия компании в борьбе соискателей на получение первой в России телефонной концессии претерпела любопытную эволюцию. Первоначально среди ее участников присутствовали только частные лица (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 266. Л. 1–2 об., 20–25, 30–31 об.), представитель же компании А. Тернер вступил в борьбу от ее имени (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 266. Л. 20–23 об.), но на роль контрагента он предлагал акционерное общество, образованное при участии российских подданных. Среди них был приобретший купеческие права отставной инженер В. О. фон Баранов (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 266. Л. 63–63 об.). С определенного момента он вел переговоры единолично (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 266. Л. 86–86 об.). Подписанные в ноябре 1881 г. соглашения заключались именно с ним, а не с компанией и не с акционерным обществом (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 266. Л. 302, 308 об. и др.). Однако в апреле 1882 г. он, после неоднократных попыток привлечения к своей работе представителя компании А. Ф. Коха (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 266. Л. 308а–308а об., 361в), передал ей, с согласия правительства, все свои права (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 266. Л. 304 об.–307 об., 310 об.–313 и др.). Независимо от того, сознательно ли В. О. фон Баранов выстраивал свою схему или был подставлен своим «патроном», он столкнулся с финансовыми проблемами и растерял «кредит доверия» российского правительства (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 396. Л. 3, 33 об.). Это обстоятельство делает вполне весомым мнение исследователя А. А. Глущенко о том, что произошедшее было одним из рядовых явлений при проникновении иностранных предпринимателей на внешние рынки [ Глущенко , 2018, с. 123–124]. Однако российское правительство не было «обманутой жертвой». Выбор им В. О. фон Баранова объяснялся именно его связями с компанией Г. Белла. Подобранная в Телеграфном департаменте модель аппаратов поставлялась именно ею. В то время правительство возлагало надежды и на саму компанию, имея в виду ее опыт телефонного строительства за рубежом (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 266. Л. 159–161, 229–239 об.). Значительная, в сравнении с западноевропейской, длительность концессионного срока объяснялась тем, что в Западной Европе не предусматривался безвозмездный переход сетей в распоряжение казны. В России же казна была заинтересована в обслуживании сетей получавшим достаточный доход предприятием, для становления которого было нужно время (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 266. Л. 154–154 об., 196). Таким образом, правительство само способствовало становлению монополиста, который мог бы гарантировать успех нового для страны предприятия.
Такая ситуация, однако, быстро перестала удовлетворять правительство. Укоренение монополиста, причем в лице частной, к тому же иностранной, компании, пугало конкуренцией прочим принадлежавшим государству средствам связи. К тому моменту, как начальник Главного управления почт и телеграфов Министерства внутренних дел Н. А. Безак в октябре 1884 г. поставил вопрос о необходимости сдерживания этой опасности, в ведомстве считали, что его контроль над ситуацией только ослаблялся, тем более что в то время не считалось возможным предпочесть компании других соискателей. Ведомство могло быть уверено только в ее финансовой состоятельности и надежности как единственного телефонного строителя в стране. Нужно было искать другие, не связанные с применением частного капитала пути решения проблемы (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 833. Л. 6–8).
К рассматриваемому моменту в Западной Европе, помимо изначально строивших за счет казны Германии и Швейцарии, несмотря на официальное восприятие телефонов как «усовершенствования» относившихся к государственной регалии телеграфов, все еще предпочитали концессионный подход. Впрочем, в ряде стран начали сомневаться в разумности самоустранения их ведомств связи. Там также опасались возникновения конкурировавших частных монополий в виде крупных компаний (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 833. Л. 11 об.–14 об.; Д. 2035.
Л. 1–17; Шедлинг , 1889, с. 131–132) [ Осадчий , 1908, с. 26; Stein , 1996, p. 27–31, 73, 78, 125–151; Milne , 2007, p. 167, 172; Huurdeman , 2003, p. 169–173; Ploeckl , 2016, p. 227–228;и др.]. Что до США, то там дискуссии о подпадении телефонов под телеграфное законодательство не имели значения, поскольку государству там была подконтрольна только почта, но не телеграф ( Соколов , 1889, с. 103) [ MacDougall , 2004, p. 57, 92–94, 139–140, 164–165, 176–188; Bar, Sandvig , 2008, p. 538–540].
Отношение к монополии на деятельность учреждений связи в России и Западной Европе не было одинаковым. В России в совершенствовании этой деятельности финансовое ведомство было заинтересовано чуть ли не больше почтово-телеграфного. Вся прибыль последнего переходила прямиком в казну, так что испрошение любого ассигнования стоило ему труда независимо от его рентабельности. Примечательно, что превышавшие отечественные темпы развития сообщений в западноевропейских странах не были сопряжены с отчислением в казну больших, чем в России, прибылей. По соотношению переходившего в казну чистого дохода и расходов на связь (более 60 %) Россия занимала первое место в Европе. В Германии же, к примеру, этот показатель не доходил и до 3 %, на развитие связи там уходило около 90 % от той суммы, что связь приносила в казну. Впрочем, не стоит вслед за приводившим эти цифры исследователем П. С. Осадчим слишком увлекаться критикой. На отечественную связь тратилось более 60 % от сумм, эквивалентных ее доходам. Доля же расходов именно на распространение сетей электросвязи была аналогична той, что уходила на развитие всех сетей связи в Германии. При этом большая часть отечественных расходов на связь шла на отнюдь не бесполезное содержание почтово-телеграфных учреждений [ Осадчий , 1908, с. 6–26] (Приложения к стенографическим… Сессия III, 1909, с. 131, 137, 138; Приложения к стенографическим… Сессия V, 1910, с. 242–249). Впрочем, от этого не становился менее очевидным факт, что в России социальную в общем-то службу ориентировали на коммерчески выгодную деятельность, не удовлетворяя потребностей ни населения, ни занятых на этой службе людей (РГИА. Ф. 1289. Оп. 3. Д. 27. Л. 8 об.–9, 68 об.; Посторонний , 1910, с. 13; и др.).
Что до самой проблемы государственной регалии в России, то при таком подходе вопрос заключался не столько в законодательных формулировках, сколько в финансах. Правительству нужно было понять, какой из двух способов воплощения вроде бы единоличного права ведомства связи на устройство телефонных линий, путем его делегирования предпринимателям или самоличного возведения, был наиболее выгоден. Высказывалась точка зрения, что смена курса не смогла бы себя оправдать, поскольку вся чистая прибыль «съедалась» бы тратами (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 833. Л. 20–26). Н. А. Безак же напоминал, что становление монополиста-конкурента расходилось с интересами казны. Положение компании Г. Белла позволяло ей регулировать ценообразование в невыгодном для населения ключе, тем самым сокращая число потенциальных абонентов и прибыль, часть от которой полагалась казне. В то же время это не давало компании пространство для маневра, поскольку ей всегда нужно было учитывать «утечку» части ее дохода. Между тем, чем дольше телефонные сообщения развивались за счет частного капитала, тем дороже становился массив построенных сетей. Это могло усложнить задачу ведомства в случае принятия решения об их досрочном выкупе. Желая обеспечить ему опыт казенного строительства прежде принятия принципиального решения, Н. А. Безак предложил приостановить выдачу новых концессий, «для пробы» устроить правительственную телефонную сеть в Киеве и дополнить телефонное законодательство основными условиями казенного строительства (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 833. Л. 40–49 об., 60 об.–61). 4 октября 1884 г. всеподданнейший доклад министра внутренних дел Д. А. Толстого, посвященный предложению провести «опыт» в Киеве и в случае успеха применить его в других городах (там, где это будет «признано выгодным для казны»), был одобрен монархом (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 833. Л. 54–55 об.). Остальные ходатайства могли быть удовлетворены посредством частных вложений, но при более гибком подходе к определению размеров отчислений в пользу казны (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 833. Л. 59, 63–65). Выбор путей телефонного строительства и отпуск специальных средств в Комитете министров было решено оставить для разрешения в Государственном совете (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 833. Л. 73–78 об.). Там постановили финансировать пока только киевский «проект», что и было утверждено Александром III 12 февраля 1885 г. (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 833. Л. 82 об.–83, 89–93 об.).
Опыт киевской телефонной сети, открытой в 1886 г., оказался успешным: учитывая затраты на ее обслуживание, в распоряжение казны только за первый год работы перешло около 37 % ее валового дохода, в противовес тем 10 %, что поступили бы, будь она частнопредпринимательской. В Главном управлении почт и телеграфов пришли к выводу о необходимости перехода к устройству сетей исключительно на казенные средства, для чего стал бы необходим стабильный отпуск ежегодных ассигнований, не адресных, а направленных на нужды телефонизации в целом. В Министерстве финансов, однако, объявили о том, что казна не могла себе этого позволить (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 833. Л. 98–103 об.). Н. А. Безак предложил Д. А. Толстому оставить в силе законоположения, касавшиеся телефонного строительства на средства частных предпринимателей, просто дополнив их допуском к этой деятельности его ведомства, поскольку оно, при учете позиции Министерства финансов, не справилось бы с потребностями страны в телефонных сообщениях. Д. А. Толстой все же приказал при составлении годовой сметы включить расходы на них в состав тоже находившихся под угрозой отмены регулярных ассигнований на развитие телеграфных линий (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 833. Л. 110–113 об.). Государственный совет в 1887 г. постановил возобновить ежегодный отпуск средств на распространение последних, имея теперь в виду и телефонные сети. Учитывая, однако, что речь шла о 450 тыс. руб. в год, хотя ранее, без телефонов, по этой статье отпускалось 600 тыс. руб. (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 833. Л. 98–104; Смета доходов… на 1890 год, 1889, с. 72–73; Смета доходов… на 1891 год, 1890, с. 84–85; и др.), перспектива официального сосредоточения телефонного дела в ведомстве связи оставалась туманной.
Тем не менее Главное управление почт и телеграфов перестало еще с конца 1886 г. выдавать концессии частным лицам. В историографии бытует тезис о том, что «усилиями» правительства телефонизация страны существенно замедлилась [ Фролова , 2010, с. 39; Высоков , 2004, с. 300, 346; Лапина, Лелюхина , 2001, с. 27]. К 1891 г. в распоряжении казны находилось 10 телефонных сетей, частными лицами за такой же 5-летний срок, предшествовавший прекращению строительства, было возведено примерно столько же – 11. Компании Г. Белла принадлежало шесть из них (Смета доходов… на 1892 год, 1891, с. 21–23; Почтово-телеграфная… за 1889 год, 1890, с. V; Почтово-телеграфная… за 1894 год, 1896, с. XIII). Строить догадки о том, насколько оперативно предприниматели возводили бы линии в последующем, едва ли оправданно. Во всяком случае, к 1896 г. ведомство связи заведовало 55 сетями (Почтовотелеграфная… за 1896 год, 1897, с. 40–41), т.е. темпы его деятельности увеличились. Важно, однако, иметь в виду, что его вынужденная избирательность вела к затягиванию удовлетворения конкретных ходатайств и возведения междугородних сообщений (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 833. Л. 56 об.; Почтово-телеграфная… за 1889 год, 1890, с. XII) [ Фролова , 2016, с. 75–76]. Последнее, как и то, с каким размахом развернулось в начале XX в. вновь санкционированное возведение сетей на частные средства, демонстрирует то, что ведомство связи все же не справлялось с задачей (Почтово-телеграфная… за 1914 год, 1917, с. XIX–XX). Таким образом, корректнее было бы говорить не о замедлении телефонного строительства, а о том, что его темп, даже нарастая, не соответствовал потребностям населения.
В ходе дискуссий 1880-х гг. одним из доводов сторонников частнопредпринимательского строительства оставалось указание на то, что ведомство связи должно было бесплатно получить все сети в свое распоряжение по истечении 20 лет (РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 833. Л. 20– 26). В том, что передача в казну таких сетей, в частности пяти первых, белловских, должна была состояться, никто не сомневался. Однако этого не произошло. Фактически правительство их просто продало, передав за определенную плату права на их эксплуатацию новым концессионерам. Определить причины такого финала довольно сложно. Факт «замедления» телефонизации страны может навести на мысль, что правительство пошло навстречу населению и сознательно сошло со своих позиций. Однако в Главном управлении почт и телеграфов полагали свой опыт успешным. Расхождение с представленными в историографии оценками проистекает из разности подходов к определению его эффективности. В правительстве брали в расчет не темпы строительства новых сетей, а масштабы развития старых. Так, темпы прироста числа абонентов частных сетей уступали таковым у казенных, поскольку абонементная плата на первых была выше и там неохотно прибегали к не обещавшей быстро окупиться модернизации. Во многом это объяснялось позицией самого правительства по отношению к концессионерам, но факт остается фактом: опыт казенного строительства не наводил на мысль о неразумности его продолжения (РГИА. Ф. 1289. Оп. 3. Д. 1205Б. Л. 29–31 об., 146–160 об., 322–327 об.). (На самом деле, более и менее коммерчески успешные сети встречались и среди казенных, и среди концессионных. Зато та доля, что составляла чистую прибыль казенных по отношению к их общим доходам, неизменно превышала те максимальные 10 %, что можно было бы получить от концессионеров (Почтово-телеграфная… за 1888 год, 1890, с. 29–31; Почтово-телеграфная… за 1898 год, 1900, с. 40–45). Тем не менее в Министерстве финансов, прямо объявляя, что телефоны вообще не должны были иметь отношения к государственной регалии, продолжали утверждать, что государство должно было использовать любую возможность привлечения частных инвестиций и избегать трат даже на ремонт старых телефонных линий (именно им предстояло заняться после перехода белловских сетей в казну) (РГИА. Ф. 1289. Оп. 3. Д. 1205Б. Л. 149 об.–158, 264–264 об.). Описываемый этап дискуссий пришелся на рубеж XIX–XX вв., т.е. на период руководства Министерством финансов С. Ю. Витте. Такие аспекты его деятельности, как курс на развитие тяжелой промышленности и железнодорожного строительства и привлечение во многие отрасли иностранного капитала, не облегчали попытки ведомства связи добиться расширения государственного участия в телефонном деле. С другой стороны, такая расстановка приоритетов не была к концу XIX в. для казны нова. Кроме того, С. Ю. Витте не был противником расширения государственного присутствия в сфере средств сообщения. Сохранение здесь исключительных прав государства С. Ю. Витте полагал необходимым и с финансовой точки зрения, и с позиции государственных интересов, прежде всего обеспечения равномерного доступа правительства и населения к средствам сообщения и выстраивания грамотной тарифной политики (Витте, 1912, с. 327–333, 345–349, 515). С этой точки зрения, настояния на оставлении телефонных сообщений за рамками описанной схемы выглядят неоднозначно. Тем не менее объяснение кроется именно в намерении подчинить развитие средств сообщения государственным стратегическим интересам. Телефон не рассматривался как полноценная альтернатива почте и телеграфу, которые способствовали интеграции населенных пунктов в единое целое. За телефоном еще не видели такого потенциала, почему казна и не проявляла к нему серьезного интереса, считая устройство сетей вопросом местного значения. В конце концов, телефонное дело еще не совсем утратило свою новизну, и казна не спешила оставлять сомнения в разумности вложений в эту отрасль. С другой стороны, полностью оправдать этим отношение к телефону как к модной «игрушке» нельзя. Его способность соединять не только любопытствующих соседей, но и целые города, а значит, и способствовать интеграции центра и регионов уже не была новостью даже в России, хотя именно там междугороднее строительство было чрезвычайно замедлено [Фролова, 2016, с. 75–76]. Кроме того, что бы ни говорили об имевшихся только у государства возможностях поступиться доходами в интересах создания равномерных сетей коммуникаций, ориентация казны на бесперебойное увеличение доходности почтовотелеграфной деятельности была очевидна. Это делало справедливыми настояния Н. А. Безака на защите интересов его ведомства от конкуренции частного предпринимательства. Получалось, что государство, не идя на этот шаг, действовало себе же в ущерб. Кроме того, не менее очевидным направлением политики Министерства финансов было расширение доходной части общегосударственного бюджета, что вызывает недоумение касательно нежелания перейти к казенному телефонному строительству как к наиболее финансово выгодному. В конце концов, дебаты об отношении государства к телефону совпали с периодом, когда шли аналогичные дискуссии относительно другого средства коммуникации – железных дорог. Однако обсуждение этого вопроса принесло противоположный результат и вылилось в выкуп в казну старых и казенное строительство новых дорог. Возможно, дело отчасти заключалось в принципиальном стремлении Министерства финансов избегать вложений в неприоритетные отрасли. Наконец, к тому времени сменились руководители Главного управления почт и телеграфов и Министерства внутренних дел, теперь проявлявшие в телефонном вопросе меньше настойчивости. Единственное, что можно утверждать с уверенностью, – это то, что в ходе пересмотра политики в отношении телефонизации никто не руководствовался соображениями ускорения этого процесса.
Инициированное новым начальником ведомства связи Н. И. Петровым обсуждение подготовки к принятию в казну первых пяти из белловских сетей даже не поступило на рассмотре- ние Комитета министров. Оно было просто свернуто в 1899 г. после достижения министром внутренних дел И. Л. Горемыкиным и С. Ю. Витте устной договоренности о том, что сети должны были быть переданы в распоряжение новых концессионеров (РГИА. Ф. 1289. Оп. 3. Д. 1205Б. Л. 101, 146–160 об., 189, 199).
Дальнейшая работа в этом направлении была посвящена тому, чтобы стимулировать частнопредпринимательское возведение сетей и минимизировать его негативные аспекты (РГИА. Ф. 1289. Оп. 3. Д. 1205Б. Л. 189–197 об.). В этой связи в контрактах 1900–1901 гг. с новыми владельцами сетей, как и в новых «Основных условиях устройства и эксплуатации телефонных сетей частными предпринимателями» от 11 мая 1901 г., возобновивших частное строительство, отсутствовало указание на безвозмездную передачу сетей в распоряжение казны. Их владельцы, по истечении 18-летнего концессионного срока, оставляли всю аппаратуру в своем распоряжении. За три года до того они должны были входить в соглашение с ведомством связи об условиях дальнейшей эксплуатации их сетей, которые также могли быть выкуплены в казну либо переданы новым концессионерам. Выбор последних для строительства новых объектов должен был основываться на результатах торгов вокруг низкой абонементной платы. Ее максимальный предел был снижен, к тому же она должна была сокращаться по мере роста дохода телефонных предприятий. Отчисления в казну теперь составляли всего 3 %. Одновременно Главное управления почт и телеграфов ужесточало свой контроль за строительством, эксплуатацией и переоснащением сетей и расширяло надзор за их персоналом (ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 29, № 20059; РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 3239. Л. 1б–2 об., 5–8). Государство, не отказываясь от собственного участия, обратилось не только к возобновлению, но и к стимулированию привлечения частных инвестиций в процесс телефонизации страны.
Таким образом, интеграция телефонных сообщений в систему государственного управления уже существовавшими средствами связи оказалась противоречивым и болезненным процессом. Восприятие телефонов как видоизменных телеграфных устройств, как и государственная регалия на деятельность учреждений связи, казалось бы, не предполагали возникновения дискуссии о принципах правительственного участия в процессе телефонизации. Тем не менее новизна предприятия вкупе с заинтересованностью в нем населения и представителей частного капитала привели к частичному самоустранению правительства от этих процессов. Принятая позиция, однако, вызывала возражения. В ходе посвященных ей дискуссий переплетались правовые, хозяйственные и, прежде всего, финансовые вопросы, но ни сами дебаты, ни законодательные акты, ни статистический материал не могли дать однозначные ответы на них. Так или иначе, в конечном итоге в России, при сохранении безусловной монополии казны на почтовые и телеграфные сообщения, был принят компромиссный вариант развития сообщений телефонных путем привлечения в этот процесс как частных, так и казенных вложений.
Список литературы Новое средство связи и старая система (интеграция телефонного дела в систему государственного регулирования связи в России в конце XIX - начале XX века)
- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1289. Оп. 1. Д. 4978. Л. 1-1 об., 4-5; Оп. 2. Д. 259. Л. 5-6 об., 20; Д. 266. Л. 1-2 об., 20-25, 30-31 об., 63-63 об., 86-86 об., 154-154 об., 159-161, 196, 229-239 об., 302, 304 об.-307 об., 308 об., 308а-308а об., 310 об.-313, 361в; Д. 396. Л. 3, 33 об.; Д. 833. Л. 6-8, 11 об.-14 об., 20-26, 40-49 об., 54 об.-55, 56 об., 59, 60 об.-61, 63-65, 73-78 об., 82 об.-83, 89-93 об., 98-104, 110-113 об.; Д. 2035. Л. 1-17; Д. 3239. Л. 1б-2 об., 5-8; Оп. 3. Д. 27. Л. 8 об.-9, 68 об.; Д. 1205Б. Л. 29-31 об., 51 об.-56, 101, 146-160 об., 189-197 об., 199, 264-264 об., 322-327 об.
- Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 гг. СПб., 1912.
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. СПб., 1884. Т. 55. Отд. 1. 27 февраля 1881, № 61921.
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. СПб., 1885. Т. 1. 25 сентября 1881, № 414.
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. СПб., 1903. Т. 21 Отд. 1. 11 мая 1901, № 20059.