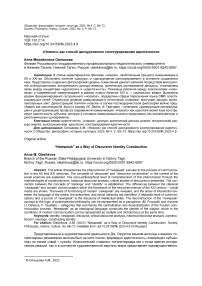«Новояз» как способ дискурсивного конструирования идентичности
Автор: Олешкова Анна Михайловна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье характеризуется феномен «новояз», свойственный процессу коммуникации в XX и XXI вв. Объяснены понятия «дискурс» и «дискурсивное конструирование» в контексте социальных наук. Представлен социально-философский уровень осмысления данного явления посредством методологий конструкционизма, исторического дискурс-анализа, критических исследований дискурса. Установлена связь между концептами «идеология» и «идентичность». Показаны различия между классическим «новоязом» и современной коммуникацией в рамках нового явления XXI в. - социальных медиа. Выявлены уровни функционирования сегодняшнего «новояза», определены сферы пересечения языка СМИ, власти, социальных сетей. Отдельным уровнем коммуникации и источником «новояза» выступает дискурс интеллектуальных элит. Деконструкцию понятия «новояз» в логике постмодернистской философии можно представить как паноптикум (М. Фуко) и ризому (Ж. Делёз, Ф. Гваттари) - категории, суммирующие централизацию и децентрализацию процесса современной коммуникации. «Новояз» как идеологический язык конструирует идентичность субъекта, которую в условиях коммуникации можно представить как множественную и дихотомическую одновременно.
Идентичность, «новояз», дискурс, критический дискурс-анализ, исторический дискурс-анализ, конструкционизм, идеология, конструирование идентичности
Короткий адрес: https://sciup.org/149142509
IDR: 149142509 | УДК: 130.2:14 | DOI: 10.24158/fik.2023.4.9
Текст научной статьи «Новояз» как способ дискурсивного конструирования идентичности
в Нижнем Тагиле, Нижний Тагил, Россия, ,
Nizhny Tagil, Russia, ,
можно даже сказать - исключительно, вертикальной коммуникацией. Клише, эвфемизмы, канцеляризмы распространяются в таком «новоязе» сверху вниз (от официальной риторики власти к коммуникации между субъектами, которые должны были использовать этот официальный легально-легитимный образец). Связь языка, власти и политики выражена в ряде важных вопросов, касающихся современной коммуникации, которую могут изучать не только лингвисты, но и философы, социологи, политологи, культурологи, психологи. Достаточно перечислить такие понятия, как манипуляция, пропаганда, мифы, идеологии . Каждая из этих категорий нуждается в отдельном исследовании, при этом следует отметить, что все они связаны с языковыми процессами в широком смысле слова: в диапазоне от языковой политики и политической риторики до правил русского языка, языка вражды и обсценной лексики - это лишь некоторые грани темы.
На этом фоне современная проблематика «новояза» нуждается в академическом осмыслении, поскольку существуют как минимум два подхода к этому явлению: язык субкультуры; язык пропаганды и агитации (Бартов, 2009).
Методологическая основа данного исследования определяется системным подходом, позволяющим представить «новояз» как частный случай современного дискурса и пример разноуровневой коммуникации: с одной стороны, в контексте взаимодействия онлайн- и офлайн-про-странств; с другой - как сферу пересечения языка СМИ, власти, социальных сетей, интеллектуальных элит. Такая методологическая рамка дает возможность аккумулировать ресурсы кон-струкционизма, исторического дискурс-анализа, критических исследований дискурса, философии постмодернизма.
Объект анализа - квазиполитический дискурс как процессуальное и динамичное явление, результатом которого выступает текст / высказывание, манифестирующее и конструирующее идентичность «говорящего субъекта». Предмет - современный «новояз» как комплексный разноуровневый феномен и частный случай дискурсивной практики субъекта. Цель исследования -социально-философский анализ категории « современный “новояз” » .
С учетом развития интернет-коммуникаций, для которых характерны сетевой принцип взаимодействия субъектов и преобладание горизонтальных связей между ними, представляется возможным соединение двух обозначенных подходов, когда язык Рунета, которому свойственны языковая игра, элементы так называемого «олбанского языка», англицизмы и язык вражды (hate speech) , применяется в разных целях: не только для артикуляции повседневных неполитических тем, что характерно для языка, связанного с возрастом или профессиональной сферой (жаргон, сленг): например юзать, стримить и т. п. (субкультура геймеров представляется определяющей). Как минимум в этом аспекте «новояз» выполняет функцию каркаса для идеологического наполнения своего информационного послания. Также «новояз» способен экстраполироваться и на собственно политические вопросы с целью отстоять позицию «говорящего субъекта» и стигматизировать позицию оппонента. Кроме того, «новояз» позволяет политизировать изначально неполитические вопросы, при этом цели «говорящего субъекта» сохраняются: языковое доминирование, стигматизация позиции Другого (например, демошиза, православнутый ).
Современный «новояз» отличается комплексностью уровней коммуникации, представляя собой особый тип квазиполитического дискурса. При всем многообразии подходов отметим, что, во-первых, понятие «дискурс» аккумулирует формулу «текст + контекст»; во-вторых, включает в себя бинарную функцию языка «конструирование и интерпретация». «Новояз» как пример дискурса является одновременно способом понимания и способом формирования реальности , представлений о себе и Других.
Будучи частным случаем дискурса, «новояз» сложно считать примером институционального дискурса, так как коммуникация, которая реализуется посредством идеологического языка, является квазиполитической и может быть представлена в разных контекстах: от повседневного общения до академической лекции. Политизации могут подлежать явления, изначально с темой политики никак не связанные: спорт, религия, экология, история и др. Само понятие власти в этом отношении также деинституционализируется, а коммуникация и условия ее реализации представляют собой ризому (Делёз, Гваттари, 2010: 11, 12) и паноптикум (Фуко, 2006: 243, 244) одновременно.
Образы корневища, грибницы позволяют представить нелинейный и в определенной степени неограниченный и разветвленный характер процесса коммуникации. Принципиально нецен-трированный текст порождается бесконечными источниками информации. Такой текст становится открытым к постоянным изменениям и разным вариантам интерпретации. Вместе с этим любая точка коммуникативного пространства может стать источником и примером языковой асимметрии и одновременно быть контролируема и хаотична. Образ прозрачной тюрьмы связан с особенностями сетевого общения, в котором интернет-пользователи могут отлучать других «го- ворящих субъектов» от возможности высказываться (банить, троллить, кибербуллить), стигматизировать позиции Другого по принципу «свой – чужой». Единого центра такого контроля над коммуникацией не существует. Будучи языком власти в широком смысле слова, «новояз» в логике философии М. Фуко является примером децентрированной власти и субъекта, переходящего в объект: «Паноптическая модальность власти – на элементарном, техническом, чисто физическом уровне, на котором она располагается, – не зависит прямо от крупных юридическо-по-литических структур общества и не образует их непосредственного продолжения» (Фуко, 2006: 270). При этом следует понимать, что правовое измерение темы, конечно, присутствует. И лингвистические экспертизы могут стать основой верификации текста как языка вражды или примером призыва к экстремизму.
С точки зрения критического дискурс-анализа дискурс вообще – форма социальной практики, он одновременно «конституирующ и конституирован» (Тичер и др., 2009: 48). В связи с этим «новояз» как сложный пример квазиполитического дискурса может включать в себя дискурс СМИ, комментарии читателей (в том числе комментарии на комментарии), официальные заявления, пересказ этих заявлений, научные работы и учебные материалы. Процесс оформления этого дискурса происходит в онлайн- и офлайн-пространствах. Так, например, новые слова и выражения могут возникать обоими способами и затем распространятся по новым каналам1. Помимо исключительно текстовых примеров перехода «новояза» с экрана на улицу и наоборот, можно привести в пример семиотику интернет-мемов и наклеек, стикеров на автомобили и символики, эмблем на одежде или аксессуарах.
С одной стороны, как предмет критических исследований «новояз» упрощает работу исследователям, поскольку на уровне горизонтальных коммуникаций в сетевом пространстве эмпирические примеры текста и изображений при наличии ярких слоганов, обсценных корней в словах, однозначных семантических смыслов позволят легко установить стигматизированные группы, установить механизм формирования образов врага, а также определить прецедентное событие, в связи с чем появилось новое выражение ( псакинг, шарлята ). С другой стороны, «новояз» XXI в. сохраняет традиции XX в., используя эвфемизмы и канцеляризмы, которые могут присутствовать в разнообразных источниках: статьях в прессе, официальных заявлениях, правовых конструкциях, учебных материалах и др. В этом отношении важна критическая традиция, опосредующая исследования дискурса. Так, следует отметить связь философии М. Фуко с философией франкфуртской школы. Также нужно выделить современную методологию исследования специалистов в области дискурс-анализа, уже ставших классиками: Т. ван Дейка и Н. Фэркло (Фэйркло, Феркло, Ферклав, Фейрклаф), в которой апробирован способ интерпретации текста СМИ и политического дискурса, позволяющий вскрывать латентные властные отношения между говорящим и предметом, который он описывает. Критическая традиция привнесла в исследования дискурса саму идею определять невидимые механизмы власти. Оба направления сближает и тот факт, что именно интеллектуалы, элиты обладают монополией на знание и истину. Важно понять, что именно влияет на этот «новый образ мысли» (Фуко, 2015: 293) в конкретную эпоху.
«Новояз» любой эпохи является примером дискурса доминирования (явного и скрытого). В связи с этим власть понимается в надполитологических категориях. Социальное ее измерение позволяет воспринимать любой дискурс как ассиметричный способ коммуникации, целью которой выступает утверждение позиции «говорящего субъекта». В этом отношении важна связка « власть – знание – язык – идеология – истина – идентичность » в контексте работ Мишеля Фуко, Славоя Жижека, Питера Бергера и Никласа Лумана. Идентичность – дискурсивный феномен. «Новояз» социальных медиа с богатой культурой комментирования, анонимностью коммуникации предоставляет основу для формирования множественной идентичности «говорящих субъектов», усиливает если не динамику, то текучесть этого процесса. Концепт «истина» является конструктом. Истина – совокупность приемов для превращения дискурса в истину. Поэтому знание зависит от эпохи и доминирующих в ней аксиологических векторов. Обладать знанием значит продуцировать истину. При этом знание дискретно, восприятие знаний и отношение к ним сегодня, в современной мире представляется более динамичными, чем динамика истории истин по эпистемам М. Фуко.
В интернет-пространстве конструирование идентичностей возможно по разнообразным основаниям: политическим, гендерным, религиозным и т. д. Представляется, что именно (квази)по-литическая направленность взглядов «говорящего субъекта» может быть доминирующей при конструировании идентичностей. Так, оценка мужественности и женственности, справедливости и несправедливости, истинности и неистинности разделяемых ценностей, любая позиция по линии «свой – чужой» вписывается в воображаемые (символические) границы и может стать следствием ценностного основания политического спектра: левые - правые, либералы -консерваторы, демократы - республиканцы и т. д. Фактически любой пример «новояза» можно вписать в этот политический спектр: пятая колонна, национал-предатели, фашисты - эти и иные категории в разные исторические периоды и в разных национальных и культурных контекстах имеют разное наполнение и преломление, при этом они могут однозначно маркировать реальность, в том числе не по политическим заявлениям.
Дискурсивным конструированиям отвечает уровень идеологии. В многообразии функций идеологий и с учетом диаметральных подходов к этому феномену важной его составляющей является сокрытие доминирования власти и расширение ее сферы. В связи с этим «новояз» как язык доминирования вписывается в концепт М. Фуко «дискурс-власть»: «Именно в дискурсе власть и знание оказываются сочлененными» (Фуко, 1996: 202). «Новояз» формирует и воспроизводит идеологии, а также способен их развенчивать, предлагая другую. Идеология – важный маркер идентичности, в том числе групповой. Идеология – всеобъемлющий контекст, сопровождающий любое действие человека, включенный в любой социокультурный феномен. Так, С. Жи-жек предлагает даже на примерах популярного массового кино выявлять идеологическое основание, зашифрованное в образах и сюжетах. Как правило, критическому осмыслению подвергается идеология капитализма (Жижек, 2017: 21), которая служит непреодолимой основой множества современных обществ. Показательным примером является интерпретация экранизации романа Ч. Паланика «Бойцовский клуб» (режиссер Д. Финчер, 1999). В условиях анонимности ин-тернет-общения множественная и расщепленная идентичность, текучая и незавершенная – часть новой «нормальности».
В критической традиции, в синтезе марксизма и фрейдизма политика и популярная культура (Интернет, общение в социальных сетях, развлекательный контент, кино и др.) являются источниками для понимания сути идеологии и проблемы ассиметричных отношений в обществе. Идеология структурирует социальную реальность, определяет действие и мышление субъекта. Идеология может сплетаться с научным знанием, что в контексте проблематики «новояза» как заведомо идеологического языка особенно важно: «Маска не просто скрывает действительное положение вещей – идеологическое искажение вписано в самую его суть» (Жижек, 1999: 36).
Идеологии воплощаются в формах взаимодействия между «говорящими субъектами» и опредмечиваются в конкретных способах бытия, определяющих идентичность (Fairclough, 2003: 218, 223). Если не учитывать, что идентичность и идеологии тесно переплетены, субъект находится в неведении относительно идеологических альтернатив и воспринимает отдельно взятую идеологию как единственно возможное должное. Так, для «новояза» характерны однозначные безапелляционные категории и заявления. Как любой язык, «новояз» можно понимать как пример символического (Жижек, 2010: 5), но и системного насилия, поскольку языковые практики обеспечивают «нормальность» работы социальных институтов. При всей его творческой составляющей с точки зрения формы (языковая игра), содержательно «новояз» призван маркировать реальность во вполне однозначных смыслах, как минимум формируя и воспроизводя стереотипы, как максимум актуализируя ксенофобский и даже расистский дискурс. Следовательно, когда мы читаем текст, в котором содержатся выражения « гейропа », « правосеки », « кузьмичи », мы можем определить, что для «говорящего субъекта» является ценным, а что нет, за что он выступает и с чем себя ассоциировать не хочет.
На этом фоне образа врага (на конкретных примерах возможно выстроить спектр чуждости: другой - чужой - враг ; в частности: эти либералы - либероиды - либерасты) формируется Своя идентичность: Я не такой как Они, Я иной, все кто со мной – Свои, не похожи на этих Других – Чужих –Врагов.
Методология социального конструкционизма (Бергер, Лукман, 1995) определяет формирование идентичности в дискурсе. Конструирование идентичностей становится возможным благодаря лингвистическим стратегиям (Li, 2022: 2), представленным в историческом и критическом вариантах дискурс-анализа (Тичер и др., 2009: 195). Важно, что именно повседневный язык предоставляет объективации и формирует порядок (Бергер, Лукман, 1995: 41). Это важная отличительная черта современного «новояза», который включает в себя внушительный пласт горизонтальной, неформальной лексики.
Философская проблема идентичности сегодня изучается с позиции разных дисциплин: социологии, антропологии, психологии. Наука и идеология рассматриваются как смежные и даже идентичные понятия. С точки зрения критического дискурс-анализа любая идеология, в том числе научная, конструирует социальную реальность. В основе этой конструкции лежат групповые интересы. Этот тезис Т. ван Дейка восходит к теории М. Фуко (Дейк, 2013: 8–9).
Список литературы «Новояз» как способ дискурсивного конструирования идентичности
- Бартов А.А. «Новояз» в литературе и в жизни: к 60-летию выхода романа Джорджа Оруэлла «1984» // Нева. 2009. № 3. С. 159-165.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995. 323 с.
- Дейк Т.А. ван. Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и коммуникации: пер. с англ. М., 2013. 344 с.
- Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения / пер. с фр. и послесл. Я.И. Свирского. Екатеринбург; М., 2010. 892 с.
- Жижек С. Киногид извращенца: кино, философия, идеология: сборник эссе / предисл. А. Павлова. Екатеринбург, 2017. 464 с.
- Жижек С. О насилии. М., 2010. 184 с.
- Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999. 237 с.
- Киосе М.И. Р. Водак. Политический дискурс в действии: политика без прикрас // Политическая наука. 2016. № 3. С. 260-275.
- Тичер C., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса: пер. с англ. Харьков, 2009. 356 с.
- Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 2015. 416 с.
- Фуко М. Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью / пер. с фр. Б.М. Скуратова. В 3 ч. Ч. 3. М., 2006. 320 с.
- Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет: пер. с фр. М., 1996. 448 с.
- Fairclough N. Analysing discourse: Textual analysis for social research. L.; N. Y., 2003. 270 p.
- Li X. The discursive construction of corporate identity in the corporate social responsibility reports: A case study of Starbucks // Frontiers in Psychology. 2022. P. 1-16. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.940541.