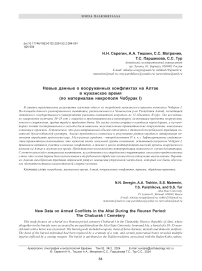Новые данные о вооружённых конфликтах на Алтае в жужанское время (по материалам некрополя Чобурак I)
Автор: Серегин Н.Н., Тишкин А.А., Матренин С.С., Паршикова Т.С., Тур С.С.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Эпоха палеометалла
Статья в выпуске: 2 т.52, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты изучения одного из погребений жужанского времени комплекса Чобурак I. На площади данного разновременного памятника, расположенного в Чемальском р-не Республики Алтай, экспедицией Алтайского государственного университета раскопан компактный некрополь из 12 объектов. В кург. 34а исследовано захоронение мужчины 30-35 лет с лошадью и представительным инвентарем, включавшим предметы вооружения, конского снаряжения, орудия труда и предметы быта. На месте головы умершего находился череп барана, а на некоторых костях посткраниального скелета были выявлены многочисленные травматические повреждения, нанесенные клинковым оружием. Установлено, что рассматриваемый объект относится к дялянской погребальной традиции носителей булан-кобинской культуры. Анализ предметного комплекса и результаты радиоуглеродного датирования позволяют определить хронологию кург. 34а в рамках середины - второй половины IV в. н.э. Зафиксированные свидетельства травматизма показывают, что мужская часть локальной группы кочевников, оставившей некрополь Чобурак I, принимала активное участие в военных конфликтах, а также в целом подтверждают высокий уровень вооруженного насилия на Алтае в жужанское время. Представлены возможности интерпретации выявленного случая декапитации. С учетом аналогий в материалах памятников, исследованных на сопредельных территориях, высказано предположение о том, что голова барана была использована в погребальном обряде как основа для изготовления маски-личины. Вероятно, данная своеобразная традиция отражает ритуал замещения утраченной части тела, который мог быть обусловлен обстоятельствами насильственной смерти человека.
Погребение, жужанское время, алтай, вооруженные конфликты, травмы, обрядовая практика
Короткий адрес: https://sciup.org/145147186
IDR: 145147186 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.2.084-091
Текст научной статьи Новые данные о вооружённых конфликтах на Алтае в жужанское время (по материалам некрополя Чобурак I)
После распада во второй половине III в. н.э. в Центральной Азии державы Сяньби и в ходе обострения в IV–V вв. борьбы за военно-политическое лидерство в этом обширном регионе существенно возросла интенсивность вооруженных конфликтов. Отражением данных процессов на территории Алтая являются зафиксированные при раскопках погребальных памятников булан-кобинской культуры множественные травмы на костях умерших людей, не имеющие следов заживления (рубленые, резаные, колотые раны, декапитация, скальпирование, отсечение конечностей). Опыт интерпретации свидетельств вооруженного насилия [Тур, Матренин, Соенов, 2018; Серегин, Демин и др., 2022; и др.], демонстрирующий повышенный уровень социальной напряженности в регионе, показывает важно сть дальнейших исследований, направленных на детализацию характера столкновений между разными группами «бу-лан-кобинцев» и выявление возможного участия в них представителей чужеродного населения. При этом следует признать, что реализация таких изысканий, имеющих большое значение для реконструкции процессов этнокультурного взаимодействия, существенным образом зависит от увеличения количества качественных антропологических материалов. Настоящая статья посвящена введению в научный оборот и разноплановой интерпретации новых данных о вооруженных конфликтах на Алтае в жужан-ское время, зафиксированных в ходе раскопок курганов на памятнике Чобурак I. Кроме того, полученные неординарные материалы потребовали обращения к отдельным аспектам истории номадов этого периода, связанным с особенностями их материальной и духовной культуры.
Характеристика источников
Погребально-поминальный комплекс Чобурак I расположен к югу от с. Еланда Чемальского р-на Республики Алтай (рис. 1). В ходе работ экспедиции Алтайского государственного университета на площади данного памятника полностью исследован небольшой некрополь, состоявший из 12 подкурганных захоронений [Серегин, Тишкин и др., 2022]. Данные объекты, практически не выделявшиеся на современной по- верхности, компактно располагались в северной части комплекса рядом с более ранними курганами энеолита и раннескифского времени, а также неподалеку от тюркских оградок. Среди исследованных захоронений, которые относятся к булан-кобинской археологической культуре, наиболее необычным оказалось погребение в кург. 34а.
Обозначенный объект был крайним в ряду из четырех курганов, под которыми находились захоронения мужчин разного возраста. Выявленная плоская наброска размерами 4,2 × 3,9 м и высотой до 0,4 м состояла из обломков рваного камня и галечных валунов. По ее внешнему контуру фиксировались более крупные булыжники, которые образовывали крепиду подовальной формы, ориентированную продольной осью по линии СЗ–ЮВ (рис. 2, а ). В границах этой выкладки находилась могильная яма длиной 4,13 м и шириной 1,2–1,6 м, заполненная галькой и камнями разного размера. Стенки ямы значительно сужались по мере увеличения ее глубины. В итоге на уровне дна длина составляла 3,1 м, ширина – 0,95–1,13 м.
В северо-западной части могилы на глубине 0,9 м от уровня древнего горизонта находилось непотревоженное погребение мужчины 30–35 лет, уложенного

Рис. 1. Расположение памятника Чобурак I.



Рис. 2. Курган 34а некрополя Чобурак I.
а – план и разрез погребальной конструкции; б – план захоронения человека с лошадью.
1 – накладки на лук; 2 – наконечники стрел; 3 – колчанный крюк; 4 – коротколезвийные ножи; 5 – поясная гарнитура; 6 – шило; 7 – удила; 8 – уздечная пряжка; 9 – детали узды; 10 – котел; 11 – седельный кант; 12 – подпружная пряжка; 13 – застежка; 14 – элемент конского снаряжения.
на спину с вытянутыми ногами и слегка согнутыми в локтях руками (рис. 2, б ). Череп и пять первых шейных позвонков отсутствовали. На месте головы умершего обнаружен череп молодого барана (определения канд. биол. наук Н.А. Пластеевой, Институт экологии растений и животных СО РАН). Он был установлен на основание и имитировал таким образом единое целое с посткраниальным скелетом человека (рис. 3, а , б ). С погребенным найден довольно многочисленный сопроводительный инвентарь. С левой стороны от костяка располагался сложносоставной лук, от которого сохранились семь костяных (роговых) накладок на верхнюю (возле плеча), центральную (в проекции таза) и нижнюю (в области бедра) части кибити
(рис. 4, 1–7 ). У левой плечевой кости зафиксировано компактное скопление железных наконечников стрел (не менее 10 экз.) (рис. 4, 8–16 , 19 ). Некоторые из них были снабжены костяными свистунками (рис. 4, 22 ). Там же обнаружен железный колчанный крюк (рис. 4, 17 ). При разборке костей таза с правой стороны найдены фрагменты двух железных коротколезвийных ножей разного размера (рис. 4, 20 , 21 ), часть шила (рис. 4, 18 ), железное крепление в виде витого восьмерковидного звена, целая и разрушенная железные пластины, по-видимому являвшиеся деталями ножен. В районе коленных суставов располагался железный круглодонный котел, сохранившийся в виде крупных обломков (см. рис. 3, в ).
Погребенного человека сопровождало захоронение верхового коня, уложенного на левый бок с сильно согнутыми конечностями и ориентированного головой на северо-запад. Скелет животного располагался «в ногах» умершего мужчины и перекрывал почти половину его костяка (см. рис. 2, б ). В челюстях лошади находились железные удила (рис. 5, 1 ), а у черепа – железные детали узды (рис. 5, 2–5 , 7 , 9 , 11 ). На позвоночнике выявлены обломки рогового канта от луки седла (рис. 5, 8 ). Рядом с ними, среди ребер, лежало железное изделие в виде пластины с креплением-петлей (рис. 5, 6 ), а немного ниже – роговая подпружная пряжка с сохранившимся подвижным язычком (рис. 5, 10 , 12 ). Под тазовыми костями животного обнаружена застежка, также сделанная из рога (рис. 5, 13 ).
Важно отметить, что на некоторых ко стях посткраниального скелета выявлены однотипные травматические повреждения резано-рубленого характера (рис. 6). Из них три локализуются на передней и боковой поверхностях бедренных костей, два – в верхней части лобковых, еще два – на телах позвонков T10 и T11. Во всех случаях следы заживления

Рис. 3. Погребение в кург. 34а.
а – вид на погребение человека после изучения сопроводительного захоронения коня; б – череп барана, совмещенный с посткраниальным скелетом человека; в – реконструкция железного котла.

Рис. 4. Предметы вооружения, воинского снаряжения и орудия труда из погребения.
1–7 – накладки на лук; 8–16 – наконечники стрел; 17 – крюк-застежка; 18 – шило; 19 – фрагменты черешков наконечников стрел;
20 , 21 – ножи; 22 – свистунки. 1–7 , 22 – кость, рог; 8–21 – железо.

Рис. 5. Снаряжение верхового коня из погребения.
1 – удила; 2–5 , 7 , 9 , 11 – детали узды; 6 – крепление; 8 – седельный кант; 10 – подпружная пряжка; 12 – язычок этой пряжки; 13 – застежка. 1–7 , 9 , 11 – железо; 8, 10 , 12 , 13 – кость, рог.
отсутствуют. Травматических повреждений могло быть и больше, но возможности их регистрации существенно ограничены из-за сильных тафономических разрушений некоторых элементов скелета, особенно ребер и отростков позвонков.
Анализ материалов
Характерные элементы погребального обряда, зафиксированные в ходе раскопок кург. 34а комплекса Чобурак I (локализация объектов рядами, насыпь небольшого размера, подовальная кре-пида, неглубокая могильная яма, одиночная ингумация на спине, ориентировка умершего в западный сектор, сопроводительное захоронение лошади «сверху» покойного), позволяют отнести его к памятникам дялянской погребальной традиции булан-кобинской археологической культуры [Серегин, Матренин, 2016, с. 161–162].
Сопроводительный инвентарь рассматриваемого объекта включает разнообразные категории изделий (см. рис. 4, 5), в т.ч. хронологически информативные находки. Показатель-
Рис. 6. Травматические повреждения на костях скелета мужчины.
1 – на левой лобковой кости, вид сверху ( 1а – локализация травмы, схематичное изображение); 2 – на нижней поверхности тела позвонка Т10; 3 – на передней поверхности правой бедренной кости ( 3а – локализация травмы, схематичное изображение); 4 – на передней поверхности тела позвонка Т11.

ными являются ярусные наконечники стрел южносибирской традиции (см. рис. 4, 8 , 9 , 12–13 ) и котел (см. рис. 3, в ), датируемые не ранее III в. н.э.; подпружная пряжка с подвижным язычком (см. рис. 5, 10 ), колчанный крюк с V-образной поперечной планкой (см. рис. 4, 17 ), седельный кант (см. рис. 5, 8 ), типичные для памятников IV – начала VI в. н.э.; удила с восьмерковидными петлями (см. рис. 5, 1 ), полусферические уздечные бляхи со шпеньковым креплением (см. рис. 5, 7 , 9 ), характерные для предметного комплекса второй половины IV – V в. н.э. [Кызласов, 1969, рис. 21, 9 ; Худяков, 1991, рис. 30, 5 ; Раскопки…, 1997, рис. 17–19, 22–25; Соенов, 1998, рис. 1; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 49, 52–53, 64, 115–117, табл. 30, 5 , 7 , 9 ; и др.]. Довольно необычным является четырехугольный наконечник стрелы (см. рис. 4, 16 ), напоминающий раннетюркские срез-ни второй половины V – первой половины VII в. н.э. [Горбунов, 2006, с. 39, рис. 26, 3 , 7 , 8 ]. Остальные категории изделий имеют более широкий период бытования в рамках II–V вв. н.э. В целом облик сопроводительного инвентаря дает основания датировать кург. 34а в рамках середины – второй половины IV в. н.э. Этому заключению не противоречат результаты радиоуглеродного анализа (см. таблицу ), выполненного в лаборатории Центра по исследованию климата, окружающей среды и хронологии 14CHRONO (г. Белфаст, Северная Ирландия; аналитик С.В. Святко).
Выявленные на костях посткраниального скелета множественные резано-рубленые повреждения позволяют утверждать, что мужчина, похороненный в кург. 34а, стал жертвой вооруженного насилия. Судя по локализации этих повреждений, они были получены от ударов мечом, нанесенных спереди. К сожалению, позвонки C6 и C7 сохранились крайне плохо, поэтому неизвестно, имелись ли на них какие-то следы механического воздействия, связанные с отчленением головы. Отметим, что кроме рассматриваемого объекта в со ставе некрополя Чобурак I исследованы еще два погребения мужчин с травмами, нане сенными длинноклинковым оружием. Данные свидетельства указывают на участие мужской части локальной группы кочевников, оставившей этот небольшой могильник, в вооруженных конфликтах.
Обсуждение результатов
Наибольший интерес представляет зафиксированная в погребении кург. 34а декапитация. На сегодняшний день единичные случаи захоронения обезглавленных мужчин у носителей булан-кобинской культуры Алтая достоверно документированы в ходе раскопок комплексов Айрыдаш-1, Верх-Уймон и Степушка [Соенов, 2017, с. 117–120; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 27, рис. 26; 28, 1 ; Тур, Матренин, Соенов, 2018, с. 134–138]. Эти материалы, с одной стороны, демонстрируют достаточно высокий уровень напряженности в отношениях между отдельными группами кочевников Алтая в IV–V вв. н.э. и, вероятно, наличие конфликтов с участием чужеродного населения, а с другой – отражают существование особых воинских ритуалов [Тур, Матренин, Соенов, 2018, с. 134– 136]. В данном контексте следует подчеркнуть, что обезглавливание поверженного противника не только предполагало устрашение живых родственников, но и имело глубокий сакральный смысл, связанный, по-видимому, с лишением умершего полноценного тела как условия для перехода в загробный мир. При этом ритуал декапитации ввиду его жестокости, скорее всего, практиковался в основном по отношению к инокультурному населению, не включенному в клановые связи.
За пределами Алтая достаточно высокий процент погребений обезглавленных людей разного пола, погибших в ходе военных столкновений, зафиксирован в Туве при раскопках некрополей II–IV вв. н.э. [Вайнштейн, 1970, рис. 110; Дьяконова, 1970, рис. 75, 79, 121; Murphy, 2003, р. 86–87; и др.]. Так, в материалах комплекса Аймырлыг XXXI декапитация установлена в пяти случаях: в двух тело было захоронено вместе с отчлененной головой (одна женщина, один мужчина), в трех других череп отсутствовал (одна женщина, двое мужчин) [Murphy, 2003, р. 86–87]. При этом на большом числе скелетов с данного памятника имелись множественные резано-рубленые повреждения, нанесенные мечом. Несколько случаев декапитации выявлено в ходе изучения антропологических материалов памятника кокэльской культуры Туннуг-1 [Milella et al., 2021].
Ввиду фрагментарности сведений о мировоззренческих представлениях носителей булан-кобинской
Результаты радиоуглеродного анализа образцов
|
Шифр |
Образец |
УМС-дата, л.н. |
Калиброванная дата (2 σ), гг. н.э. |
|
UBA-40778 |
Кость человека |
1 681 ± 23 |
328–415 |
|
UBA-40779 |
Кость лошади |
1 734 ± 25 |
244–381 |
|
UBA-45474 |
Кость барана |
1 703 ± 21 |
257–397 |
культуры интерпретация своеобразного ритуала замещения головы человека головой барана весьма проблематична. Несомненно, любые заключения в этом плане являются гипотетичными. Вместе с тем имеющиеся отдельные свидетельства позволяют предположить, что подобные манипуляции не были единичными в обрядовой практике населения Ал-тае-Саянского региона конца I тыс. до н.э. – первой половины I тыс. н.э. Возможно, близкая ситуация зафиксирована на упомянутом выше памятнике Тун-нуг-1. Одна из женщин (скелет 67) была погребена без головы, а на месте отсутствовавшего черепа лежали железный нож и позвонок овцы [Ibid.]. Еще более показательными являются результаты изучения глиняной маски из захоронения тесинской культуры Шестаковского некрополя (Кемеровская обл., раскопки А.И. Мартынова) с помощью вычислительной рентгеновской томографии в Институте ядерной физики СО РАН, которые показали, что «портрет человека» был вылеплен на черепе барана (овцы) [По-лосьмак, 2010, с. 84–85]. В рамках данного исследования приведены многочисленные свидетельства значения этого животного в представлениях носителей многих культур различных хронологических периодов [Там же, с. 85–88].
Возвращаясь к возможной интерпретации материалов кург. 34а комплекса Чобурак I, обратим внимание на то, что голову барана вместе с частью шеи «соединили» с торсом человека, имитируя единое целое. Безусловно, эта чрезвычайная манипуляция с телом умершего обусловлена обстоятельствами насильственной смерти. В качестве одной из гипотез допускаем, что голова животного в данном случае была использована как основа для изготовления маски-личины, которая заменяла утраченную голову человека. Отсутствие следов такого изделия в захоронении может объясняться плохой сохранностью органических материалов, характерной и для других объектов некрополя. В целом такую процедуру представляется возможным рассматривать в качестве примера реализации вынужденной частичной манекенизации человека для осуществления полноценного обряда перехода умершего в загробный мир.
Заключение
Захоронение обезглавленного мужчины в кург. 34а некрополя Чобурак I было совершено но сителями дялянской погребальной традиции булан-кобинской культуры Алтая. Облик предметов, обнаруженных в погребении, позволяет датировать объект в рамках середины – второй половины IV в. н.э., чему не противоречат полученные результаты радиоуглеродного анализа образцов костей из него.
Большинство выявленных на посткраниальном скелете умершего человека резано-рубленых повреждений без следов заживления были нанесены мечом. Имеющиеся свидетельства травматизма демонстрируют вовлеченность населения, оставившего некрополь Чобурак I, в конфликты с использованием клинкового оружия. Это является дополнительным подтверждением зафиксированного ранее высокого уровня вооруженного насилия на Алтае в жужанское время. Однако пока нет до статочного объема материалов для более подробной реконструкции характера столкновений, в т.ч. для решения вопроса о возможном участии в них представителей чужеродных групп населения. Также довольно фрагментарны материалы, связанные с интерпретацией зафиксированной в погребении замены головы человека головой барана. Вместе с тем имеются основания для предположения о том, что это отражает ритуал замещения утраченной части тела, возможно обусловленный обстоятельствами насильственной смерти. Расширение имеющейся источниковой базы, прежде всего за счет осуществления целенаправленных раскопок археологических памятников, позволит более обоснованно рассматривать различные аспекты военной истории кочевников Алтая и сопредельных территорий конца I тыс. до н.э. – первой половины I тыс. н.э., а также приблизиться к пониманию слабоизученного комплекса их мировоззренческих представлений, нашедших отражение в обрядовой практике.
Исследование осуществлено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 20-78-10037).