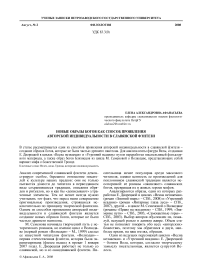Новые образы богов как способ проявления авторской индивидуальности в славянской фэнтези
Автор: Афанасьева Елена Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (93), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается один из способов проявления авторской индивидуальности в славянской фэнтези - создание образов богов, которые не были частью древнего пантеона. Для анализа взяты фигура Велы, созданная Е. Дворецкой в циклах «Весна незнаемая» и «Утренний всадник» путем переработки писательницей фольклорного материала, а также образ богов Близнецов из цикла М. Семеновой о Волкодаве, представляющих собой вариант мифа о божественной Троице.
Велес, вода, троица, авторская индивидуальность
Короткий адрес: https://sciup.org/14749424
IDR: 14749424 | УДК: 83.3(0)
Текст научной статьи Новые образы богов как способ проявления авторской индивидуальности в славянской фэнтези
Анализ современной славянской фэнтези демонстрирует особое, бережное отношение писателей к культуре наших предков: они не только пытаются донести до читателя в первозданном виде сохранившиеся традиции, описания обрядов и ритуалов, но и как бы «дописывают» утраченные элементы. Тем не менее всегда нужно учитывать тот факт, что перед нами совершенно оригинальные произведения, строящиеся исключительно по принципу творческой фантазии. Одним из способов проявления авторской индивидуальности в славянской фэнтези является создание новых образов богов, которые не были частью древнего пантеона.
М. Семенова начинала творческий путь с исторических романов, но именно цикл о Волкодаве (первый роман «Волкодав» – М., 1999) сделал ее известной читателям фэнтези. «Волкодав» – первая отечественная фэнтези, которая была экранизирована (фильм вышел в прокат 1 января 2007 года). Е. Дворецкая работает не только со славянской, но и со скандинавской фэнтези. Пи сательница менее популярна среди массового читателя, однако ценность ее произведений для поклонников славянской традиции является неоспоримой: ее романы «оживляют» славянских богов, превращая их в живых героев мифов.
Анализируются образы, один из которых разработан Е. Дворецкой в циклах «Весна незнаемая» (роман «Зимний зверь» – СПб., 2008) и «Утренний всадник» (роман «Янтарные глаза леса» – СПб., 2007), другой – в цикле М. Семеновой о Волкодаве (романы «Право на поединок» – СПб., 1999; «Знамение пути» – СПб., 2003, «Самоцветные горы» – СПб., 2003). Выбор авторов обусловлен их, пожалуй, ведущей ролью в данном жанре. Объем статьи не позволяет говорить обо всех «авторских» божествах, поэтому мы обратимся к двум, наиболее ярким, на наш взгляд, образам.
Один из ведущих персонажей циклов «Весна незнаемая» и «Утренний всадник» Е. Дворецкой – богиня Вела, которая, согласно творческому замыслу писательницы, является супругой Велеса.
По свидетельству Б. А. Успенского, неотъемлемым элементом культа Велеса была вода, так как Велес считался покровителем земных вод. Данная функция проистекает из «основного мифа» о борьбе Перуна с Волосом в образе Змея, когда после победы Громовержца начинается дождь, а змей «скрывается в земных водах» [1]. Теория «основного мифа» позволяет Б. А. Успенскому предположить, что Волос обитает в земных водах, тогда как Перун – покровитель вод небесных; «однако Волос провоцирует дождь, исходящий с неба, и, таким образом, оказывается с ним связанным» [2] .
В творчестве Е. Дворецкой функция покровительства земным водам переносится на женскую ипостась Велеса – «темную Велу, Хозяйку Подземной Воды», «Мать Засух», получившую такое имя за то, что она «валуном заваливает подземный источник, отчего все реки на земле мелеют, а ручьи пересыхают» [3]. Можно предположить, что уничтожающая воду Вела – оборотная сторона Велеса, держателя земных вод. Вела, в отличие от Велеса, персонифицирована, «ближе к земному миру» [4], однако внешность ее то схожа с человеческой, то не имеет конкретных черт: «У старухи не было лица. Была темная, туманная дыра в никуда, и сама старуха утратила черты человеческого существа и стала темной бездной» [5] и «высокая, тощая, высохшая, как щепка, старая женщина <…> Ее длинные, сухие, спутанные волосы цвета увядшей травы спускались ниже колен, так что из их чащи только и было видно что пожелтевшее лицо с мелкими, острыми, недобрыми чертами, покрытое множеством морщин, длинные худые руки с цепкими пальцами и подол грязно-серой рубахи <…> мелкие, тесно сидящие желтые зубы» [6]. Вела непосредственно связана с миром мертвых: «Непримиримая вражда живого к мертвому толкала его броситься на старуху и вцепиться клыками в ее высохшее горло» [7]. Предположительно можно говорить о семантическом сходстве созданного писательницей божества Велы с Мораной, чье имя связано со смертью и с морем одновременно.
Несмотря на отрицательный характер созданного писательницей божества, в романе «Зимний зверь» именно она пытается восстановить утраченное миром равновесие: в результате похищения княжичем Светловоем богини Лели разбилась чаша Годового Круга, и на земле воцарилась вечная зима. Вела призывает к себе Лелю в ее новой, земной ипостаси, с помощью сына Велеса усыпляет ее, и им остается только ждать появления земного воплощения Перуна, который сразится с Велесом и разбудит богиню весны.
Можно предположить, что источником этого образа является не только Велес, но и низшее божество вила, о чем прежде всего свидетельствует сходство имен. А. Н. Афанасьев высказывает предположение о том, что вила и vilva сближаются со сканд. vala, valva, volva, то есть вещу нья , чародейка [8]. Ученый полагает, что славянское слово вила происходит от глагола вить, вью* – плести, скручивать и означает «мифическую деву, которая прядет облачные кудели и тянет из них золотые нити молний» [9].
Согласно мифологическим воззрениям болгар, вилы владели колодцами и озерами и обладали способностью «запирать» воду. По словам Н. И. Толстого, в одной западно-болгарской песне Вила самовила является самостоятельным именным персонажем – хозяйкой волшебного озера, воды которого она «собрала» на вершину высокой горы [10]. Сербы же были убеждены, что вилы могут насылать бури, град, болезни топить лодки [11].
Итак, образ Велы, созданный Е. Дворецкой, носит явный полисемантический характер: Вела не только берет на себя все функции низшего божества вилы, но и становится хозяйкой всех подземных источников. Писательница создает пару Велес – Вела, не характерную для славянской мифологии, однако Вела не является в полной мере авторским изобретением. Е. Дворецкая использует уже имеющийся фольклорный материал и лишь перерабатывает его.
На страницах романов о Волкодаве М. Семенова создает образ языческой Троицы: два бога Сына и бог Отец, которые являются объектом поклонения в секте близнецов. Изображенные в романе жрецы богов Близнецов почитают триаду богов-мужчин, а какое бы то ни было участие богини-женщины отрицается: «В самом деле, поклонение, завещанное от праотцов, вовсе не подразумевало особого почитания смертной женщины, выносившей во чреве своем сыновей Бога. Кто она такая была, чтобы ее чтить?» [12] Для последователей культа Близнецов величайшая миссия, возложенная на женщину, не имеет никакого значения – она воспринимается лишь как инструмент Бога, как бездушная утроба для вынашивания божественных детей.
Близнецы стали объектом поклонения после естественной смерти, а при жизни они были обычными людьми. Один из них, Старший, отстаивает справедливость с помощью оружия: «…я сразу решил избрать для себя путь жреца-воина. Я хотел следовать Старшему, сиречь выслеживать Зло и казнить его проявления повсюду…» [13].
У М. Семеновой Старший Брат являет собой агрессивное начало – он страстный поклонник охоты, поэтому его жрецы также должны были увлекаться этим искусством, о чем свидетельствует следующая цитата: «Хономер не питал особой страсти к охоте (что, кстати, являлось едва ли не упреком для него, последователя Старшего)» [14]. Младший, напротив, идет по пути добра через созидание. В мифах, сочиненных писательницей, он предстает как лекарь, причем врачует он совершенно бескорыстно: «…пытаюсь служить Младшему: лечу пьяниц <…> мелких воришек» [15].
Как для архаичного мышления следование путем почитаемых богов – необходимое предписание, так и для жрецов Близнецов возможен только один путь – лечить больных, не взимая никакой платы.
Младший из Богов принимает мученическую смерть, в страданиях оканчивая свое земное существование: «При этом Венн вспоминал Близнеца, вырубленного из ледяных недр, и невольно дивился: им ли, смертным, чураться конца, освященного участью Бога? Не род смерти отвращал его, а та безропотность, с которой пришлось бы ее принимать. Кроткий Целитель не потому, небось, оставался во льду, что для борьбы мужества не хватило» [16].
Троица – мифологема, распространенная не только среди славян, как язычников, так и православных; она встречается и в других культурах. Так, по словам К. Г. Юнга, в аркадской Монакрии почитался трехглавый Гермес [17], а тройственность вообще всегда была свойственна божествам преисподней: это и трехтелый Тифон, и трехтелая и трехликая Геката, и три змеевидных сына Зевса [18].
К Троице М. Семеновой обращаются следующим образом: «Святы Близнецы, прославленные в трех мирах, и Отец их, Предвечный и Нерожденный…» [19]. Характеристика Бога Отца – «Предвечный и Нерожденный» – говорит об абстрактном характере данной фигуры, тогда как его дети – Боги Сыновья – «канонизированы» персонажами романов только после смерти, то есть изначально они были людьми и к небесной святости никакого отношения не имели. Старший Брат пропал без вести во время охоты, Младший – замерз во льдах, и ни о каком Великом Воскрешении не было и речи.
Итак, дети Бога воплощались в реальных людей, то есть, по мнению героев М. Семеновой, были рождены не только в Потустороннем мире, но и в Мире-по-эту-сторону. Отец же их никогда не был рожден. Такую парадоксальную, на первый взгляд, ситуацию можно разрешить, опираясь на концепцию «Отдыхающего Бога» М. Элиаде, мифы о котором распространены во многих племенах на стадии охоты и собиратель- ства. Отдыхающий Бог создал Мир и человека, но вскоре отошел от дел и ушел на Небо [20]. Иллюстрации к такого рода представлениям ученый находит в поговорках племени банту: «Сотворив человека, Бог перестал им заниматься» и в поговорках племени негриллос: «Бог отдалился от нас!» [21] Эти мифы позволяют исследователю прийти к выводу, что бог теряет свою «религиозную актуальность», становясь «первым примером "гибели Богов", неистово провозглашенной Ницше. О Боге-творце, культ которого утрачен, постепенно забывают» [22]. Сходную ситуацию мы можем обнаружить в романах М. Семеновой: о Боге Творце помнят лишь служители культа Близнецов; постепенно его место занимает отвергнутый ранее образ Богини Матери, что подтверждается и иконами, где изображаются Мать и Сыновья, а Отец предстает лишь в виде тени на заднем плане.
Контурное изображение Бога Отца можно трактовать, опираясь на слова последователя К. Г. Юнга Э. Нойманна о том, что «первобытные люди еще не понимали связи между рождением детей и сексом, женское начало оплодотворялось надличностным мужским принципом, который являлся как дух или божество, как предок или ветер, но никогда как конкретный личностный мужчина. В этом смысле, женщина была "автономной", т. е. девственницей <…> Она являлась мистическим творцом жизни, отцом и матерью в одном лице» [23].
Из всего вышесказанного следует, что персонажи, созданные М. Семеновой, не имеют прямых славянских корней, так как фигура Троицы в отечественном культурном сознании заняла достойное место лишь с приходом христианства.
Краткий обзор божественных персонажей, созданных фантазией писателей славянской фэнтези, позволяет нам говорить о том, что создание абсолютно оригинальных, на первый взгляд, фигур, обусловлено не только авторским замыслом, но и опирается на глубокую мифологическую традицию, как отечественную, так и общеевропейскую.
Юнг К . Г . Дух Меркурий... С. 168.
Семенова М . Волкодав. Самоцветные горы… С. 96.
Элиаде М . Аспекты мифа. М.: Academia, 1996. С. 99.
Элиаде М . Аспекты мифа... С. 101.
Список литературы Новые образы богов как способ проявления авторской индивидуальности в славянской фэнтези
- Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М.: Изд-во МГУ, 1982. С. 80.
- Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. С. 80.
- Дворецкая Е. Янтарные глаза леса. СПб.: Изд-во «Крылов», 2007. С. 342, 396.
- Дворецкая Е.Зимний зверь. СПб.: Изд-во «Крылов», 2008. С. 356.
- Дворецкая Е.Зимний зверь. С. 111.
- Дворецкая Е.Зимний зверь. С. 395.
- Дворецкая Е.Зимний зверь. С. 396.
- Афанасьев А. Н.Мифы, поверья и суеверия славян: В 3 т. Т. 3. М.: ЭКСМО; СПб.: Terra fantastica, 2002. С. 149.
- Афанасьев А. Н.Мифы, поверья и суеверия славян. С. 149.
- Толстой Н. И.Очерки славянского язычества. М.: Индрик, 2003. С. 450.
- Афанасьев А. Н. Мифы, поверья и суеверия славян... С. 151, 159.
- Семенова М. Волкодав. Знамение пути. СПб.: Азбука-классика, 2003. С. 153.
- Семенова М. Волкодав. Право на поединок. М.: Олма-Пресс; Спб.: Нева, 1999. С. 294.
- Семенова М. Волкодав. Самоцветные горы. СПб.: Азбука-классика, 2003. С. 84.
- Семенова М.Волкодав. Знамение пути. C. 294.
- Семенова М. Волкодав. Самоцветные горы. С. 72.
- Юнг К. Г.Дух Меркурий. М.: Канон, 1996. С. 168.
- Юнг К. Г. Дух Меркурий... С. 168.
- Семенова М. Волкодав. Самоцветные горы. С. 96.
- Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Academia, 1996. С. 99.
- Элиаде М.Аспекты мифа... С. 101.
- Элиаде М.Аспекты мифа... С. 101.
- Нойманн Э. Леонардо да Винчи и архетип матери//Юнг К. Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство. М.: Рефлбук, 1996. С. 100.