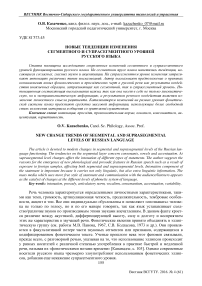Новые тенденции изменения сегментного и супрасегментного уровней русского языка
Автор: Казаченко О.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 4 (61), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию современных изменений сегментного и супрасегментного уровней функционирования русского языка. На сегментном ярусе языка наметились тенденции, касающиеся согласных, гласных звуков и акцентуации. На супрасегментном уровне изменения затрагивают интонацию различных типов высказываний. Автор высказывает предположение о причинах возникновения новых фонологических и просодических черт в русской речи как результата воздействия иноязычных образцов, затрагивающих как сегментный, так и супрасегментный уровень. Интонационная составляющая высказывания важна, так как она несет в себе не только лингвистическую, но и экстралингвистическую информацию, а результатом речевого воздействия является изменение личностного смысла реципиента. Катализатором изменений на разных уровнях фонетической системы языка предстают средства массовой информации, использующие более свободный стиль изложения материала и общения со зрителями/слушателями.
Интонация, просодия, произносительная норма, вокализм, консонантизм, акцентуация, вариативность
Короткий адрес: https://sciup.org/142143229
IDR: 142143229 | УДК: 81''373.45
Текст научной статьи Новые тенденции изменения сегментного и супрасегментного уровней русского языка
Речь человека характеризуется определенными личностными характеристиками, такими как темп, громкость, артикуляционная четкость, продолжительность, тембровые особенности, акцент и тон. Все они индивидуально обусловлены и позволяют «опознавать» человека не только по голосу, но и по его манере говорить, так как язык устанавливает сход-ство/различие звуков по производимым этими звуками впечатлениям. В данном факте кроется различие между акустикой, дифференцирующей высоту, силу и долготу и восприятием этих же характеристик в звучащей речи. Фонетические явления принято объединять в эллиптическую группу (см. работы М.В. Панова, 1967, С.В. Кодзасова, 1973 и др.). Они проявляются в факультативной потере части звуковых сегментов или признаков, содержащихся в кодифицированном фонетическом тексте. Ученые прошлого века этот феномен связывали, прежде всего, с разговорной речью, указывая на то, что использование эллипсов происходит у разных носителей с различной степенью употребления в практике быстрой и медленной речи, называя их «фонетическими метами времени» [Капанадзе, с. 105]. Однако современные носители русского языка чрезмерно злоупотребляют использованием фонетических эллипсов, добавляя еще искажение супрасегментного уровня.
Факт наличия изменений в звуковой стороне языка современности интересен уже сам по себе, так как в основном модификации фонетических свойств речи подчинены внутренним законам языка, в отличие от несомненного влияния внешних факторов на лексику. Однако воздействие каких-либо социальных и иных процессов нельзя упускать из внимания. При условии, что в обществе происходят значительные изменения, например смена культурных ориентиров, сдвиги в нормативном произношении обусловлены и ими в том числе.
Не следует также забывать, что элементы звуковой системы языка (звуки, фонемы, аллофоны, фоны), как некий конструкт, соотносятся с реально произносимыми человеческими звуками во всем их многообразии. Этот аспект особенно важен сейчас, так как наука избрала антропоцентрический подход к объяснению феноменов как наиболее продуктивный. Обращаясь к проблемам фонетики, мы имеем мысленный конструкт, но важно то, что он выведен из действительной звучащей реальности. Конечно, конструкт не абсолютно тождественен языковой действительности, но и сильно отдаляться от нее он не должен.
При исследовании проблемы изменений, происходящих в фонетике современного русского языка, нельзя не коснуться вопроса произносительной нормы, поскольку уровневые основания, принципы обработки и следование стандартам неодинаковы (см. работы В.Г. Костомарова). Норма – понятие неоднозначное, и в самом общем виде ее можно определить как совокупность особенностей, которыми язык данного коллектива отличается от других. В более узком смысле норма есть правильная, чистая речь. Она есть некое высокое воплощение, образец, которому, в идеале, должен следовать каждый. Нормативное произношение предполагает делать неявным, незаметным происхождение, образование, профессиональные интересы говорящего. В данной интерпретации речь образованных людей, и до недавнего времени дикторов центрального телевидения, виделась таковой. Однако, как показывают наблюдения за речью молодых теле- и радиожурналистов, «демократизация СМИ выражается не только в характере отбора и стиле подачи информации, но и в переходе на разговорный стиль изложения этой информации» [Кузнецова, с. 52]. Стремление к непринужденности и естественности порой приводит к неразборчивости и даже полной непонятности содержания передач.
Вот уже много десятилетий специалисты по культуре речи (сам термин вошел в обиход с 1920-х гг., когда был создан Институт речевой культуры в 1925 г.) говорят о двух разновидностях русского литературного произношения: московском (старом) и ленинград-ском/петербургском (новом). Однако до настоящего времени норма оказывалась сводимой к московскому произносительному варианту, который характеризовался как «признанная произносительная норма русского литературного языка» (А.А. Реформатский). Сегодня многие исследователи утверждают, что благодаря развитию центральных СМИ и интернет-коммуникациям лингвистический механизм образования вариантов практически перестал функционировать, о чем свидетельствуют современные экспериментальные данные, например, полученные и опубликованные в 2007 г. в газете «Аргументы и факты: « Только 7 % москвичей в слове «высокий» не смягчили «к», только 8 % не влепили «э» оборотное в заимствованные слова вроде «шинель». А что касается некогда типично московского «дощщь», то здесь мы перещеголяли и самих жителей культурной столицы — теперь «дошть» и «под дождём» вместо «дощщь» и «под дожжём» говорят 86 % москвичей и только 74 % питерцев [Кудряшов].
Данный вопрос осложняется еще и тем, что проблема вариативности нормы не ограничивается простой дихотомией «север - юг», а представляет собой гораздо более сложную картину из-за огромной территории нашей страны. Согласимся с Л.В. Щербой, отмечавшим в «Избранных работах» в 1957 г., что «полтораста миллионов, расселенных на колоссальной территории, не могут говорить одинаково» [Щерба, с. 56].
Норма выступает не как точный определенный эталон, а скорее как диапазон, он, конечно, не очень широкий, но в то же время допускает некоторые вариации.
При рассмотрении проблемы произносительной нормы современного русского языка нельзя не коснуться проблемы кодифицированного литературного языка и некодифициро-ванного разговорного. Дело в том, что последний усваивается только путем непосредственного общения между людьми. По сложившемуся научному мнению, кодифицированному языку «учат в школах, на нем ведутся передачи по радио, область КЛЯ (кодифицированного литературного языка - аббревиатура авторов) - вся наша печать» [Современный русский язык, с. 32]. Сейчас происходит, на наш взгляд, то, что можно назвать экспансией разговорной речи с упрощением кодифицированной среды. В продуктах СМИ можно наблюдать, что элементов некодифицированной речи становится все больше, так как доля «недикторов» и «неведущих» становится все больше. Кроме того, в современной речевой практике не принято быть слишком зажатым перед аудиторией, поэтому в эфир попадает то, что раньше считалось недопустимым. Поэтому часты случаи непроговаривания всех элементов таких слов, как сейчас, все равно, оказывается, совершенно, сказать, здравствуйте и др.
Будучи полноправным элементом системы языка, произносительная норма, будь то московская или петербургская, не может не быть динамическим образованием, так как окаменелость, изолированность оказалась бы ее концом, смертью. На действительное произношение действуют, как представляется, две разнонаправленные силы: с одной стороны, индивидуальное многообразие произносительных практик множества людей, «расшатывающих» произношение звуков, с другой стороны - кодифицирующая, ограничивающая норма, призванная сохранить основные признаки звучания.
Если оканье, характерное сегодня для восточной части нашей страны, и аканье, характерное для южных и центральных регионов России, четко воспринимаются как разные звуки, то многие варианты звуков (фоны), ассоциируемые с некоторым общим звуковым представлением, могут иметь «колеблющееся произношение» в терминах Л.В. Щербы. «Все эти колебания нормально нами не осознаются, оставаясь ниже порога сознания, и даже когда они достигают известного предела, то мы говорим лишь о «невнятном» произношении, а не об отклонении от нормы» [Щерба, с. 3].
Рассмотренные фонетические процессы, будучи зафиксированными учеными в определенное время и место, находятся уже довольно далеко от реальной действительности по объективным причинам. Как ни один словарь не может похвастаться «всеохватностью» отражаемой в нем лексики, так и исследования фонетических процессов современного русского языка будут иметь актуальность и новизну. Вслушиваясь в речь современников, можно заметить, что она изменяется и развивается абсолютно на всех уровнях языка: от фонетического до синтаксического и стилистического.
При исследовании современной системы фонем русского языка приходим к выводу, что в целом система не изменилась, но реализация некоторых позиций все-таки претерпела изменения разной интенсивности. Что касается ударных гласных, то здесь ученые не видят особых проблем: «Система русских гласных, включающая только 6 фонем, отличается большими зонами безопасности, что дает возможность их широкого варьирования» [Вербицкая, с. 71].
Однако длительность современных гласных, а также их артикуляторное опускание к более низкому ряду (подъему) языка вызывает интерес исследователей. Например, было выявлено (см. работы Л.А. Вербицкой), что на месте орфограмм е, а, и я в неударных (заударных или предударных) слогах, а также в положении после мягких произносится [i], а после твердых - [ы]: весна [v’isna], желать [zыlat’]. Нами было замечено и использование носителями русского языка варианта ие вместо предельно узкого верхнего [и], хотя, конечно, говорить о его безраздельном и повсеместном использовании нельзя. Наблюдать можно и противоположную картину, когда в речевом потоке изменяется вариант еи: (в) лесу [ Геису]. На основании множества примеров, проф. Л.А. Вербицкая утверждает, что современная произносительная норма - икающая (ыкающая). Объяснение данным явлениям можно найти как во внутренних законах языка, так и во внешних факторах. Так, например, В.Н. Шапошников утверждает, что «к качеству предударного слова причастен и лексико-культурный фактор: заимствованное (даже не свежезаимствованное, не только пришедшее) слово произносится более отчетливо – а заимствований в речи сейчас очень много» [Шапошников, с. 29].
Изменения также коснулись и консонантизма. Так, мягкие заднеязычные согласные, статус которых был до недавнего времени довольно спорным, уже присутствуют в речи и выговариваются русскоязычными людьми без каких-либо проблем: Кяхта, Кёльн, ликёр, гёрл(а). Уходит из обихода заднеязычный щелевой вариант звука г. Следует отметить, что данный вариант никогда не был нормативным, но все-таки был представлен в речи некоторых политиков прошлого века (ярким примером тому служит речь М.С. Горбачева). Тем не менее диалектное произношение юга России еще довольно стойкое, хотя и здесь есть тенденция к нормированному взрывному произношению соответствующей фонемы. Сюда можно также отнести унифицирующееся произнесение —чн, —чт в словах булочная, баночный, прачечная, лавочник, порядочный, имевшее тенденцию к оглушению первого элемента буквосочетания до —шн .
Увеличенная длительность безударного звука в речи современных носителей русского языка отмечается в предударном слоге, который произносился до недавнего времени короче и слабее ударного, со всеми вытекающими последствиями в характере данного звука: ваазь-ми, каароче, паайдем, вааще .
Данная тенденция также приводит к некоторым изменениям в акцентуации. Русское ударение характеризуется как качественное: ударный слог выделяется силой, напряженностью и интенсивностью, а значит, и громкостью, в отличие от музыкального ударения, осознаваемого как перемена тона, и от количественного, воспринимаемого как увеличение длительности. В современной речи, как было показано на примерах, ударный звук несколько менее громкий и сильный, в отличие от предударного, более протяженного. Таким образом, имеются зачатки изменения акцентуации, и, вполне возможно, данные модификации обусловлены также и вхождением американских заимствований в лексику русского языка, как одного из факторов.
В связи с этим особенно важно исследование современной интонации, которая является самым сложным элементов изучения языков, так как «впитывается с молоком матери». О сложности обучению интонации говорил еще Л.Р. Зиндер в прошлом веке: «…труднее всего иностранцы усваивают именно интонацию. Лица... безукоризненно произносящие отдельные слова чужого языка, делают зачастую ошибки в интонации… Можно сказать, что интонация представляет наиболее характерный фонологический признак данного языка» [Зиндер, с. 270]. Ребенок усваивает, а далее взрослый человек использует определенные интонационные модели, не подвергая их анализу, в отличие, например, от накапливания и расширения значений слов в процессе жизни и деятельности.
Парадокс интонации заключается в том, что, являясь по существу надлинейным фонетическим средством, не имеющим значения, которое составляет неотъемлемую часть сегментных единиц (от морфем до единиц самого высокого уровня), она не только влияет на фонетику, но и занимает прочное положение в грамматике предложения и – шире – текста: от участия в семантическом оформлении устного высказывания, формирования его прагматического значения, дифференциации его типов (утверждение – вопрос) до того, что может быть единственным признаком предложения (ср. например, высказывание Вон! в значении «убирайся», которое можно рассматривать как предложение только благодаря соответствующей интонации).
Интонация, как и произношение человека, не является природно обусловленной, так как она формируется под влиянием общественно-культурной среды, лингвистического окружения, особенностей темперамента и т.п. Особенно важно слышать «правильные» образцы интонационного рисунка на протяжении всего периода развития ребенка, так как «фиксация» мелодики является длительным, хотя и бессознательным процессом.
В данной работе авторы придерживаются точки зрения, которая синонимизирует понятия «интонация» и «просодия» для обозначения общей функциональной системы супрасег-ментных средств языка, не вдаваясь подробно в разграничение и обособление данных терминов.
В одном из разделов психолингвистики – теории речевой коммуникации (см. работы А.А. Леонтьева, Е.Ф. Тарасова) было доказано, что результатом речевого воздействия является изменение личностного смысла реципиента, что может повлечь за собой изменение поведения, его эмоционального состояния, его знаний о мире и т.д. Эти изменения вполне коррелируются с этапами процесса речевого воздействия, и не последнюю роль, как следует из результатов экспериментально-фонетических исследований, играют просодические средства. Таким образом, интонационная составляющая высказывания важна, так как она несет в себе не только лингвистическую, но и экстралингвистическую информацию. Лингвистическая информация представлена просодическими средствами, а экстралингвистическая – энциклопедическими, а также личностными ассоциациями. Интересно высказывание исследователя языкового сознания Е.И. Крюковой, полагающей, что «важно видеть специфику функционирования языкового сознания в звуковой речи и соответствующее использование человеком таких звуковых реальных единиц, как фонема, слог, фонетическое слово, группирующее слоги под одним ударением, речевой такт, объединяющий фонетические слова при помощи ограничительных пауз, фонетическая фраза, объединяющая такты единством интонации. Всякое отступление от правильного использования компонентов языкового сознания и звуковой речи остро фиксируется в сознании» [Крюкова, с. 33].
В связи с этим можно предположить, что просодические средства, входящие в устное высказывание, могут влиять на адекватное / неадекватное усвоение информации. Если энциклопедическая информация будет преподнесена в «ущербном» виде, то личностные ассоциации, возникшие при этом, будут отличаться от тех, которые могли быть актуализированы при адекватном кодировании.
Влияние интонации на реципиента исследуется не только в цикле лингвистических дисциплин, но и в целом ряде работ, посвященных психологии продаж, имиджелогии, технике делового общения и ораторского искусства. Несмотря на то что данные работы носят в основном научно-популярный характер, они доказывают, что просодическое оформление речи влияет на общее впечатление, принятие решений о компетентности говорящего, а также на формирование намерений, что особенно важно, например, в рекламе.
Интонационные конструкции, будучи довольно разнообразными в русском языке, пополнились и все более распространяющейся склонностью особо выделять ударный гласный последнего слова в синтагме. Эта особенность представляется новой составной частью фонетического вида фразы. Эта своеобразная «певучесть» имеет под собой явно иноязычные манеры. Выделение слога служит средством привлечения фокусировки на семантике этого слова, что, в свою очередь, оказывает влияние на коннотативное значение всего текста. При модификации интонационного контура происходят изменения в едином семантическом пространстве звучащего текста. В прагматическом аспекте такая информация может быть интерпретирована как более полезная и актуальная.
Еще одной особенностью современной просодической нормы является исчезновение «свойственного русской речи типа интонационного оформления – мелодичного, без резких скачков и тональных переходов, спокойный темп речи, четкое интонационное выделение наиболее значимых частей высказывания без интонационного дробления словосочетаний на отдельные слова» [Кузнецова, с. 55].
Одной характерной чертой спонтанной речи является «регулярное отсутствие нисходящего тона даже в конце высказываний, отличающихся смысловой и грамматической законченностью» [Степихов, с. 23]. Вместо привычного нисходящего тона в конце повествовательных высказываний встречаются нисходящее, ровное, восходящее и нисходяще-восходящиее движение тона. Этот факт можно объяснить подчеркиванием некоторой неза-159
вершенности своей мысли, нацеленности на продолжение речи, на поддержание контакта. Более всего, на наш взгляд, современная устная речевая практика затронула ИК-1 и ИК-2 (в терминологии Е.А. Брызгуновой). ИК-1 в русском языке выражает завершенность, категоричность. Здесь нет смысловых выделений и противопоставлений, но современная интонация в данной конструкции указывает на обратный процесс.
Заключение
Наблюдение за живой речью носителей русского языка позволило выявить ряд изменений, касающихся просодических характеристик высказываний. Эллиптическую группу составляют модификации в вариантном произношении гласных и согласных фонем, причем изменения касаются в основном консонантизма, а он, как известно, является консонантным по характеру фонетической системы русского языка (см. работу Е.Л. Бархударовой, 1999). Кроме того, известным «деформациям» подвергаются слоговая структура и акцентуация. Интонационные тенденции также стали носить регулярный характер, и не только в разговорной речи, но и в кодифицированной речи СМИ и в речи политической и общественной элиты. Изменения могут быть объяснены как внутренними законами языка, так и социолингвистическими и даже психолингвистическими. К тому же в некоторых случаях катализаторами являются иноязычные образцы, проникающие в русский язык на разных уровнях. Все приведенные факты, вне всякого сомнения, требуют глубоких экспериментальноинструментальных исследований. Причем к анализу и научному объяснению, на наш взгляд, должны присоединиться и психолингвисты, так как изменения языка на разных уровнях влекут за собой изменения языкового сознания, являющееся отражением мировидения и мировосприятия человека.
Список литературы Новые тенденции изменения сегментного и супрасегментного уровней русского языка
- Зиндер Л.Р. Общая фонетика. -М.: Высшая школа, 1979. -312 с.
- Капанадзе Л.А. Фонетические меты характера//Язык и личность. -М.: Наука, 1989. -216 с.
- Крюкова Е.И. Языковое сознание личности. -Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2007. -196 с.
- Кудряшов К. Пройдёт ли московский «доЩЩь»?//АиФ Москва. -2007. -№ 12 (714), 21 марта . -URL: www.aif.ru/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%89%D1%8C (дата обращения 30.01.2016).
- Кузнецова Н.И. Орфоэпическая правильность речи//Хорошая речь/под ред. М.А. Кормилицыной и О.Б. Сиротининой. -2-е изд., испр. -М.: Изд-во ЛКИ, 2007. -С. 50-56.
- Современный русский язык/под ред. В.А. Белошапковой. -2-e изд., испр. и доп. -М.: Высшая школа, 1989. -800 с.
- Степихов А.А. Современный русский язык: интонация: учеб-метод. пособие. -СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2015. -56 с.
- Шапошников В.Н. Русская речь 1990-х: Современная Россия в языковом отображении. -3-е изд. -М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. -280 с.
- Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку/ред. М.И. Матусевич; Акад. наук СССР, отд. лит. и яз. -М.: Учпедгиз, 1957. -186 с.
- Щерба Л.В. Русские гласные в качественном и количественном отношении/ред. Л.Р. Зиндер, Л.В. Бондарко; Акад. наук СССР, Отд-ние лит. и яз., Комис. по истории филол. наук. -Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1983. -321 с.