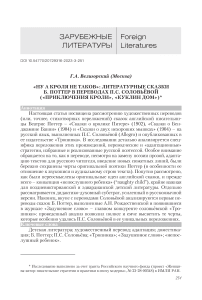«Ну а кроля не таков»: литературные сказки Б. Поттер в переводах П.С. Соловьёвой («Приключения кроли», «Куклин дом»)
Автор: Велигорский Г.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена рассмотрению художественных переводов (или, точнее, стихотворных переложений) сказок английской писательницы Беатрис Поттер - «Сказки о кролике Питере» (1902), «Сказки о Бенджамине Банни» (1904) и «Сказки о двух нехороших мышках» (1904) - на русский язык, выполненных П.С. Соловьёвой (Allegro) и опубликованных в ее издательстве «Тропинка». В исследовании детально анализируется специфика переложения этих произведений, переводческие и «адаптационные» стратегии, избранные и реализованные русской поэтессой. Особое внимание обращается на то, как в переводе, несмотря на замену поэзии прозой, адаптацию текстов для русского читателя, введение новых сюжетных линий, были бережно сохранены черты оригинальной поэтики Поттер (в особенности ее отношение к звукописи и аудиальному строю текста). Попутно рассмотрено, как были переосмыслены оригинальные идеи английской сказки, и прежде всего - концепция «непослушного ребенка» (“naughty child”), крайне важная для поздневикторианской и эдвардианской детской литературы. Отдельно рассматривается дидактико-духовный субстрат, усиленный в русскоязычной версии. Наконец, вкупе с переводами Соловьёвой анализируются первые переводы сказок Б. Поттер, выполненные А.Н. Рождественской и появившиеся в журнале «Задушевное слово» - главном конкуренте соловьёвской «Тропинки»: проведенный анализ позволил полнее и емче высветить те черты, которые особенно удались П.С. Соловьёвой в ее уникальных переложениях.
Детская литература, художественный перевод, адаптация, доместикация, б. поттер, п.с. соловьёва, «тропинка», «задушевное слово», «непослушный ребенок»
Короткий адрес: https://sciup.org/149143539
IDR: 149143539 | DOI: 10.54770/20729316-2023-3-251
Текст научной статьи «Ну а кроля не таков»: литературные сказки Б. Поттер в переводах П.С. Соловьёвой («Приключения кроли», «Куклин дом»)
Беатрис Поттер (1866–1943) – один из тех классических авторов, которые не сразу обрели свое место в жизни. Первоначально она воспринимала себя как биолога, писала исследования о природе грибов (впрочем, ее диссертация, рассмотренная в Линнеевском обществе, удостоилась весьма сдержанной оценки) [Taylor 1996, 67]. Рано проявился в ней и талант рисовальщицы; еще в юные годы ее влечет все «крошечное и выразительное <...>, тончайшие детали растений, лишайник под микроскопом, хитроумное устройство мышиного гнезда и структура беличьего глаза» [Lane 1968, 40–41]. Уже в ран- ней юности Поттер учится оформлять детские книги. Она копирует рисунки Рэндолфа Колдекотта (1846–1886), сотрудника журнала «Панч» и одного из крупнейших детских иллюстраторов конца XIX в. Именно талант художницы, прежде всего, и прославит Поттер среди современников: ее рисунки будут оценивать как «безупречные», как «творения отменного карандаша» [Taylor 1996, 95]. А вот как тонкого стилиста и реформатора языка детской литературы Поттер откроют уже потомки, которые отметят ее уникальный стиль: простые, но емкие фразы, неожиданные инверсии, не дающие воображению заскучать [Mackey 1998, 37], а также особый синтаксис, в котором сквозит поэтика английского перевода Библии [Carpenter 1985, 143].
Первая книга, из которой впоследствии разрастется уютный поттеров-ский универсум, «Сказка о кролике Питере» (“The Tale of Peter Rabbit”), увидела свет в 1902 г. Ранняя ее версия появилась еще в 1893 г. – Поттер тогда сочинила сказку для сына своей прежней гувернантки, пятилетнего Ноэла Мура. «Не знаю, о чем написать тебе, – так начиналось это послание, – поэтому напишу про четырех крольчат. Звали их Мопси, Флопси, Ватный Хвост и Питер» (письмо от 4 сентября 1893 г.) [Taylor 1996, 60]. Уже в первом варианте сказки, сопровождавшемся небольшими рисуночками, наметились узловые мотивы истории: бегство непослушного кролика, проникновение в сад, фигура антагониста-садовника, мытарства в парнике и оранжерее, возвращение домой и отпаивание неслуха ромашковым чаем.
Концепция маленькой, карманной книжечки, «книжечки-кошелька» (wallet), которую ребенок может носить в кармане штанов или передника, на самом деле была не нова. Этот формат (2,5×3,5 дюйма) генетически восходит к карманному букварю (horn-book), распространенному в XVI в. Другие бестселлеры 1890-х гг. выходили в значительно более крупном формате (ср. знаменитую серию «Голливог» о приключениях тряпичного человечка). Известно, что Н. Уорн даже настаивал на том, чтобы формат книги был увеличен [Lane 1968, 104]. Поттер отказала, и издатель пошел на коммерческий риск, подписав с автором контракт (июнь 1902 г.) на публикацию 8000 экземпляров.
И риск себя оправдал. До конца года было продано 26 тысяч копий, в 1903 г. – уже 50 тысяч [Taylor 1996, 76]. «Публика, должно быть, в восторге от кроликов! Ого-го, как же много Питеров!» – радовалась писательница [Lane 1968, 91]. Такая популярность требовала от автора скорейшей публи- кации продолжения. Поттер пишет еще две сказки, не связанные с кроличьей семьей, а затем возвращается к изначальной истории. «Сказка о Бенджамине Банни» (“The Tale of Benjamin Bunny”) увидела свет в сентябре 1904 г. (одновременно со «Сказкой о двух нехороших мышках»); это был непосредственный сиквел, где сюжет строился вокруг того, как Питер и его кузен Бенджамин «выручают» одежду, потерянную Питером во время бегства из сада. Книга также стяжала немалый успех и, вкупе с «Кроликом Питером», стала фундаментом той вселенной, на которой выстроится впоследствии знаменитый «кроличий» универсум.
Сказки Б. Поттер о Питере и его друзьях стали коммерческим феноменом. Уже в 1903 г. появилась игрушка (первая в истории кукла книжного персонажа, на которую создательница получила патент!) – кролик в синей курточке, застегнутой на пуговицу у шеи, и в туфлях без задника, тех самых, которые он теряет в саду. Так началось победоносное шествие Питера – одного из знаменитейших детских персонажей XX и XXI вв. и, вместе с тем, успешнейшего коммерческого продукта.
* * *
Видя небывалый успех сказок, издатели задумались о переводах. Уже в 1907 г. Н. Уорн договаривается об издании приключений Питера на французском и немецком языках [Taylor 1996, 151]. Планам этим суждено было осуществиться лишь через пять лет, в 1912 г., с появлением перевода мадемуазель де Байон (в котором Питер и Бенджамин стали Пьером и Жанно) [Taylor 1996, 216]; чуть ранее, в том же году, сказку напечатали и в Голландии. В настоящий момент она переведена на 36 европейских языков; однако западные исследователи систематически игнорируют тот факт, что первый из этих переводов появился в России – в 1908 г., на страницах «Задушевного слова».
«Задушевное слово» (1876–1918 гг.) было крупнейшим детским журналом рубежа веков, своего рода гигантом в своей области. Его издатель М.О. Вольф внимательно следил за новинками английской литературы и закупал основные бестселлеры; так, в каталоге за 1908 г. упомянуты три книги Б. Поттер: “The Tale of Peter Rabbit”, “The Tailor of Gloucester” и “The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle”; все они состояли в свободной продаже, по 1 руб. 20 коп. [Известия книжных магазинов… 1908, 41, 71].
Первая из упомянутых здесь историй будет напечатана в «Задушевном слове» в июне-июле 1908 г., под названием «Приключения Пети-кролика» и с подзаголовком «Рассказ Б. Поттер». Фабульно перевод точен, повторяет все коллизии оригинала. В то же время, его едва ли можно назвать удачным. Переводчица А.Н. Рождественская явно считала, что перед ней – классическая животная сказка в духе братьев Гримм, а потому вводила в текст многочисленные инверсии: «Жили они при матушке своей <...>» [Поттер 1908, 539] и т.д., злоупотребляла сочинительным союзом «да». Для ее перевода характерен стерильный стиль, множество канцелярских конструкций: «Убежав на довольно большое расстояние <...>»; «<...>
Г.А. Велигорский (Москва) | «Ну а кроля не таков»: литературные сказки Б. Поттер... быстро оглядывая окружающее»; «<...> бежал по направлению к калитке» [Поттер 1908, 573, 574, 590]. Немало в нем и примеров доместикации: так, садовник МакГрегор превращается в «господина Марка Григорьева». Звукоподражания, напротив, передаются весьма стандартно: «Чхи!» [Поттер 1908, 573] или же откровенно неудачно; ср. слова, которыми переданы звуки мотыги: «Визг, царап, царап, визг!» [Поттер 1908, 589]. Встречаются, наконец, и неудачные употребления диалектизмов. В сцене, где Петя смотрит на садовника, сообщается, что последний «кокшил мотыгой луг» [Поттер 1908, 590]. Слово «кокша» в значении «мотыга», зафиксированное в «Словаре русских народных говоров» с окраской «новгородское», на момент публикации сказки даже не фигурировало в лексиконах (впервые оно появится в Академическом словаре за 1911 г.) [Словарь русских народных говоров 1978, 108]; очевидно, что это совсем не та лексика, которая будет ясна детям младшего возраста.
Такая жестокая неудача требовала скорейшего переосмысления – и именно его осуществит в 1914 г. переводчица П.С. Соловьёва.
* * *
Поликсена Соловьёва (1867–1924) во многом была схожа с Беатрис Поттер. Практически погодки (Соловьёва всего восемью месяцами младше), они обе были «многостаночницами». Соловьёва также увлекались живописью (брала уроки у самого Поленова!), писала стихи и прозу, рисовала к ним иллюстрации; она выпускала детский журнал, к работе над которым привлекла ведущих деятелей эпохи, а впоследствии руководила издательством. Она была популяризатором иностранной детской литературы и тонко чувствующей переводчицей; именно благодаря ей маленький читатель смог впервые оценить, пусть и «сквозь тусклое стекло», и французский «Роман о лисе» (1910), и каламбуры из «Алисы в Стране Чудес» (1911), переводившиеся до того в существенно упрощенном виде, и дух оригинальных сказок Б. Поттер...
Важным детищем П.С. Соловьёвой был журнал «Тропинка» (основан в 1906 г.), который Б. Хеллман назовет «детским отделением русского символизма» [Hellman 2013, 270]. Соловьёва была не только его редактором и ведущим автором, но и бессменным оформителем: разрабатывала инициа-лы-«буквицы», концевые замки, виньетки; в журнале мы не раз встречаем придуманные ей растительные орнаменты, рисунки грибов, берез – и даже рисунок кролика (1911, № 11). Спектр публикаций был весьма широк: здесь печатались стихи и рассказы, озорные шарады, загадки и ребусы, а на соседних с ними страницах – познавательные статьи из разных областей науки, исторические очерки, рецепты и инструкции и даже карты звездного неба. Качество публикуемых здесь стихов и прозы было не в пример выше, чем в «Задушевном слове»: среди авторов «Тропинки» были О. Форш, З. Гиппиус, М. Шагинян, А. Блок, К. Бальмонт, С. Городецкий... В 1933 г. в статье «О наследстве и наследственности в детской литературе» С. Маршак отнесет «Тропинку» к числу «лучших детских журналов» начала века, отметив, однако, что читали ее «только дети петербургских писателей», тогда как «по проезжей дороге “Задушевного слова” катила вся масса детей чиновничества, офицерства, городского мещанства» [Маршак 1971, 294].
В декабре 1912 г. редакция «Тропинки» сообщила о закрытии журнала и о создании одноименного издательства, которое «будет расширено путем издания не только отдельных детских книг беллетристического и научного характера, но и альманахов или сборников для детей». Именно в этом издательстве и увидят свет стихотворные сказки П.С. Соловьёвой – «Приключения Кроли» (1914) и «Куклин дом» (1918).
«Приключения Кроли» были тепло встречены современниками. Из сохранившихся рецензий известен отклик А.А. Блока. 28 октября 1915 г. он записал в дневнике, что эту сказку «нельзя сравнить с дилетантскими стихотворными упражнениями, к каковым, насколько я знаю, относится большинство детских книг в стихах» [Блок 1965, 273]. В целом отзыв был хвалебным: «Стих отличается большой насыщенностью; мало эпитетов, почти нет уменьшительных, богатые рифмы, ритмическое разнообразие и, если можно так выразиться, широкий диапазон образов <...>» [Блок 1965, 273]. Имелась в рецензии и критическая сторона: Блок отмечал галлицизмы, неудачный анжамбеман, ошибочное ударение в слове «лучку» и проч. [Блок 1965, 273–274].
Создавая свою версию «Кролика Питера» и «Бенджамина Банни» (эти две сказки были объединены в «Приключениях Кроли»), П.С. Соловьёва обращается к четырехстопному ямбу – классическому (хотя и не единственному) размеру для стихотворных сказок начиная с «Конька-горбунка» (1834) П.П. Ершова и ряда сказок А.С. Пушкина. Рифмовка в стихах парная (наиболее простая для детского восприятия), реже – перекрестная, совсем в редких случаях – опоясывающая; автор умело чередует мужские и женские рифмы, вводя звуковое разнообразие.
Соловьёва сохраняет в сказке всех ключевых персонажей, заменяя, однако, их имена. Питер переименован в Кролю, а Бенджамин – в Нолика; мистер МакГрегор стал просто «садовником». Мать Питера (в оригинале ее зовут Mrs. Rabbit, по фамилии покойного мужа) получает имя Ватка, безымянный отец Бенджамина прозывается Пухошёрст. Появляются и новые персонажи: среди них – дядя Еж, характерный герой русской животной сказки, храбрый и рассудительный, зачастую – мудрый резонер. Еж как положительный персонаж (хотя и с оттенком комизма) был выведен в сказке Мирзы Турген «Еж-богатырь» («Тропинка», 1909, № 1).
Несмотря на замену прозы поэзией, Соловьёва местами весьма точно передает авторский текст. Сравним, например, следующие пассажи: “And then, feeling rather sick, he went to look for some parsley” («И вот, ощущая себя весьма дурно, он отправился поискать немного петрушки») [Potter 1901, 22] – «Охая, сложивши ушки, / Он пошел искать петрушки» [Соловьёва 1914, 21–22]; “It would have been a beautiful thing to hide in, if it had not had so much water in it” («Здесь [в лейке] можно было бы хорошо спрятаться, если бы там не было так много воды») [Potter 1901, 37] – «В лейке скрыться от беды / Хорошо бы, да воды / Слишком много» [Соловьёва 1914, 22].
Перенося сказку в русский универсум, Соловьёва осторожно адаптирует чужеземные реалии (не впадая чрезмерно в доместикацию). Некоторые из них она передает обобщенно; так, “tam-o-shanter” (классический шотландский берет из шерсти с помпоном) становится в переводе просто «беретом», а “clogs” (клоги, обувь на деревянной подошве) – «башмачками».
Как уже отмечалось выше, Б. Поттер была увлекающимся биологом; в оригинале упоминаются многочисленные растения и душистые травы, о свойствах которых писательница стремится поведать читателю. Названия некоторых из них Соловьёва сохраняет – к примеру, упоминает петрушку, которой Кроля лечит больной живот. Другие, малознакомые русскому малышу, она заменяет аналогами; так в тексте появляются поганки и сыроежки (грибы, которые ребенок мог видеть в лесу), поэтичная «травка-шепотуха» [Соловьёва 1914, 48], а также герань – один из символов деревенской России. Наконец, характерную адаптацию переживает ромашковый чай. Англичанам он был хорошо знаком: еще в медицинских трактатах XIX в. этот отвар характеризовался как «бесценное снадобье»; в переводе же главный ингредиент чая заменен на «горькую траву зарю», вероятно, знакомую русскому читателю по строкам из «Евгения Онегина» (гл. 2, строфа XXXV).
Видна в переводе и умелая работа со звукописью. Поттер использует авторские звукоподражания: “Kertyschoo!” (вместо классического “Ah-choo!”), “lippity-lippity”, “scr-r-ritch, scratch” (звук скребущей мотыги), “trit-trot, trit-trot of the pony”, “pitter-patter, pitter-patter”. Большинство из них Соловьёва бережно сохраняет в переводе: «Дзинь, дзон, плюх!», «Чих-чох, чик-чок!», «И удар о землю лап / Был как дождик: трап-трап-трап» [Соловьёва 1914, 17, 19, 23].
Несмотря на аккуратное обращение с оригиналом, некоторые элементы истории в версии Соловьёвой были переосмыслены; прежде всего корректировке подвергся образ Питера как «непослушного ребенка».
Концепция “naughty child”, как реакция на викторианское воспитание, в котором гиперопека и властность граничили с бесчувственным отношением к отпрыску, сформировалась в сочинениях Р. Джеффриса («Лесное волшебство», 1880; «Бевис», 1881) и К. Грэма («Золотые годы», 1895; «Пора грез», 1898), получив развитие в рассказах Э. Несбит и сказках Б. Поттер. В подобных историях дидактика отступает на второй план, а в фокусе оказываются веселые проделки и приключения (подробнее об этом см.: [DeWilde 2008; Велигорский 2020]). Важнейшая ценность для “naughty child” – это свобода от условностей. Насильственное застегивание курточки (да еще на виду у братьев!), укладывание в постель, ряжение в платок, пичканье невкусной травой и лекарствами – всё это для Поттер разновидности викторианских ограничений (“restrictions”), против которых восстают и Питер, и Бенджамин.
Важно понимать, что в русскоязычном пространстве концепция “naughty child” на тот момент еще не укоренилась. Непослушные дети царили в комиксах (ср. приключения Машеньки и Мишеньки, безобразников-близнецов, печатавшиеся в 1908 г. в «Задушевном слове»), но пол- ноценными персонажами книг пока что не становились; попытки представить ребенка-хулигана, никак не наказываемого, неизменно воспринимались в штыки. Характерен в этой связи отклик на перевод сборника рассказов К. Грэма “The Golden Age” (в переводе А. Баулер – «Золотой возраст», 1898): «Проделки племянников за глазами теток и способы сокрытия шалостей, довольно грубых» [Справочная книжка… 1907, 336]. В своем изложении Соловьёва усугубляет «проказливость» Питера, подробно описывая его выходки, которых нет в оригинальном тексте; при этом ее позиция как рассказчицы вполне очевидна: она – не на стороне кролика:
Много с ним возни и бед: То один съест весь обед, То, стащивши башмачок Братнин, бросит в ручеек, То, набравши лягушат, Он наложит их в ушат... <...>
Словом, всё не передать, Что от Кроли терпит мать... [Соловьёва 1914, 4–5]
Трое младших крольчат, почти обезличенные в оригинале, выводятся Соловьёвой, напротив, как положительные и даже образцовые персонажи (при том, что для Поттер наивность и послушание – едва ли не негативные черты; ср. ее сказку «Про поросенка Лапушку» (“The Tale of Pigling Bland”, 1913), где именно умение лгать и юлить становится для персонажа залогом взросления [Велигорский 2020, 291–292]). Вот как характеризует их Соловьёва: «Все три умненькие были», «Что за милые крольчата», «Ум большой, хоть малый рост» [Соловьёва 1914, 9, 28]. В конце трое братьев удостаиваются награды – и «горькая» заря, настоем которой отпаивают непослушного Кролю, недаром противопоставлена «сладкой» ежевике и «листику вкусного салата», которыми угощает их мать [Соловьёва 1914, 30].
Для текстов Соловьёвой, сестры религиозного философа, характерен был духовный субстрат (что особенно заметно в ее поэзии); неудивительно, что и в перевод сказок Поттер был привнесен библейский мотив «преслушания» и запретного плода. В первых же строках Соловьёва акцентирует мифологему «заветного сада»: «Но из леса в сад людской / Запрещаю вам ходить» [Соловьёва 1914, 6]. Мотив запрета подчеркнут и в песенке, которую поют послушные крольчата: «Хорошо на свете жить! / Ручеек журчит, прохлада, / Лес весь наш, и лишь не надо / Нам к садовнику ходить» [Соловьёва 1914, 9]. Это самое «лишь» – залог беззаботного счастья – и «преступает» проказливый Кроля.
Человек, в чьи владения он попадает, представлен здесь как явный антагонист: он характеризуется как «садовник злой »; «с гадким заступом своим» [Соловьёва 1914, 18, 22]; дом его, соответственно, явлен как демоническое пространство: «Где чернеет старый мост», «Ах, какой ужасный вид»
[Соловьёва 1914, 9, 22]. Как только Кроля попадает внутрь, сад становится для него тюрьмой: «Да везде кругом ограда », «Вот в стене глухая дверь» [Соловьёва 1914, 20, 21]. Лесной дом, напротив, описывается как «свое» пространство: «Он родной покинул лес», «В лес родной , где нет людей», «Доплелся к норе родной » [Соловьёва 1914, 10, 24, 26] (для британской литературы о “naughty child”, напротив, был бы более характерен образ тюрьмы – родного дома [DeWilde 2008, 16–18]).
Акцентирует Соловьёва, в отличие от Б. Поттер, и позитивный образ матери. Именно «кроличиха Ватка» становится тем резонером, с которым солидарна переводчица. Ватка – не только средоточие доброты, но и властная фигура (последнее, кстати, созвучно идеям Б. Поттер): «Выпьешь, если я велю», «И, отдернув одеяло, / Кролю вытащила силой / И лекарством напоила» [Соловьёва 1914, 28, 32]. Во втором приключении место Ватки занимает отец Бенджамина – кролик Пухошёрст: «Воспитателем умелым / Он прослыл на много верст»; «Очень умный, строгий кролик / Слово скажет – и конец» [Соловьёва 1914, 36–37]. Именно он, как и в оригинале, наказывает непослушных братцев; однако если у Поттер наказание описано буквально одним предложением, у Соловьёвой оно акцентировано и эмоционально насыщенно: «Поднял он с земли свой хлыст, / И... свершилось наказанье. / Раздался зловещий свист, / Писк и горькое рыданье» [Соловьёва 1914, 59].
Читатель может увидеть, что материнское воспитание сказалось на характере Кроли: когда Нолик находит его, он сидит «в раздумье кротком» [Соловьёва 1914, 41]. В целом Кроля более робок в «сиквеле», и заводилой оказывается его кузен, которого, по замыслу рассказчицы, тоже необходимо воспитать, что и происходит в итоге: «Кроля с братцем, присмирев, / Шли уныло и послушно» [Соловьёва 1914, 61]. Таким образом, дидактическая модель, предложенная автором, оказывается вполне рабочей – и одновременно входит в разрез с авторским замыслом Б. Поттер.
* * *
Как видим, переводы П.С. Соловьёвой – тот уникальный случай, когда, существенно отступая от авторского стиля и замысла, переводчик точнее передает дух и задачи оригинала, чем буквальный, но выхолощенный и оттого пустой переклад. Впоследствии Соловьёва будет обращаться и к другим техникам – например, дорабатывать авторские иллюстрации, делая их более понятными для маленького читателя; этот редкий мотив получит развитие четырьмя годами позже в еще одном переводе из Б. Поттер – сказке «Куклин дом», – о которой мы подробнее расскажем в продолжении данной статьи.
Список литературы «Ну а кроля не таков»: литературные сказки Б. Поттер в переводах П.С. Соловьёвой («Приключения кроли», «Куклин дом»)
- Блок А.А. Записные книжки, 1901–1920 / сост., подгот. текста, предисл. И примеч. В. Орлова. М.: Художественная литература, 1965. 664 с.
- Велигорский Г.А. Побег из усадьбы в детской и автобиографической литературе Великобритании и России (вторая половина XIX – начало XX в.) // Новый филологический вестник. 2020. № 3(54). С. 284–294.
- Известия книжных магазинов т-ва М.О. Вольфа по литературе, наукам и библиографии. Т. 11. М.: Т-во М.О. Вольф, 1908. 216 с.
- Маршак С.Я. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 7. М.: Художественная литература, 1971. 656 с.
- Поттер Б. Приключения Пети-кролика // Задушевное слово. 1908. № 34. С. 539–541; № 35. С. 557–559; № 36. С. 573–574; № 37, С. 588–590.
- Словарь русских народных говоров: в 50 т. Т. 14. Л.: Наука, 1978. 376 с.
- Соловьёва П. (Allegro). Приключения Кроли / рис. Б. Поттер. СПб.: Тропинка, 1914. 63 с.
- Справочная книжка по чтению детей всех возрастов / сост. М.В. Соболев. СПб.: Издание т-ва А.Ф. Маркс, 1907. 600 с.
- Carpenter H. Secret Gardens: A Study of the Golden Age of Children’s Literature. Boston: Houghton Mifflin Company, 1985. 276 p.
- DeWilde M.L. Victorian Restriction, Restraint, and Escape in the Children’s Tales of Beatrix Potter. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts at Grand Valley State University. Allendale (MI), 2008. 83 p.
- Hellman B. Fairy Tales and True Stories: The History of Russian Literature for Children and Young People (1574–2010). Leiden; Boston: Brill, 2013. 600 p.
- Lane M. The Tale of Beatrix Potter. Glasgow: William Collins Sons & Cº, 1968. 196 p.
- Mackey M. The Case of Peter Rabbit: Changing Conditions of Literature for Children. New York: Garland, 1998. 238 p.
- Potter B. The Tale of Benjamin Bunny. London; New York: Frederick Warne & Cº, 1904. 59 p.
- Potter B. The Tale of Peter Rabbit. London: Frederick Warne & Cº, 1901. 59 p.
- Taylor J. Beatrix Potter: Artist, Storyteller, and Countrywoman. London: Frederick Warne, 1996. 240 p.