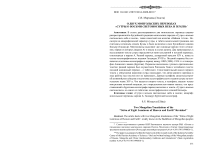О двух монгольских переводах «Сутры о восьми светоносных неба и земли»
Автор: Мирзаева Саглара Викторовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 4 (55), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются два монгольских перевода широко распространенной в буддийской традиции монгольских народов «Сутры о восьми светоносных неба и земли», также известной как молитва «Найман гэгээн». Несмотря на апокрифический характер сутры, в тибето-монгольской традиции она считалась истинным словом Будды и была включена в свод буддийского канона Кагьюр (Ганджур). Монголоведы выделяют две основные версии этого сочинения, первая из которых (версия А) и вошла в состав канона. Два привлекаемых в исследовании текста сутры определяются нами как ранний и поздний переводы, относящиеся к версии А. Ранний перевод, датируемый началом XIV в., вошел в состав ксилографического издания Г анджура XVIII в. Поздний перевод был отпечатан отдельным ксилографом в период между 1882 (1894)-1924 гг. в типографии Анинского дацана (Бурятия). Переводы выполнены с разных оригинальных текстов: ранний перевод был осуществлен Ринченом Таши с китайского текста; поздний анонимный перевод - с тибетского. Сопоставительный анализ первого текста с уйгурскими версиями сутры показывает, что автор раннего перевода в ходе работы над текстом мог их привлекать. Данные колофона свидетельствуют об активной роли уйгуров в подготовке ксилографического издания сутры на монгольском языке XIV в. Что касается второго текста, в колофоне указано только имя резчика печатной матрицы, но с определенностью можно сказать, что представленный в бурятском ксилографе перевод выполнен с текста «Сутры о восьми светоносных» из одного из тибетских ксилографических изданий Кагьюра.
«сутра о восьми светоносных неба и земли», апокриф, монгольские переводы, версия а, ганджур, бурятский ксилограф
Короткий адрес: https://sciup.org/149127482
IDR: 149127482 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00117
Текст научной статьи О двух монгольских переводах «Сутры о восьми светоносных неба и земли»
«Сутра о восьми светоносных неба и земли» (далее - «Сутра о восьми светоносных»), более известная в монгольском буддизме как молитва «Найман гэгээн» (монг. naiman gegen /gegegen), является одним из наиболее распространенных в письменной традиции монгольских народов буддийских текстов. Оригинальный текст этой сутры - китайский апокриф «Баян-цзин» (полное название - «Сутра о восьми светоносных (букв. ‘солнечных’), проповеданная Буддой» (кит. fo shuo tiandi ba yang shen zhdu jing)), составленный в VIII IX вв. в период правления династии Тан (618-907).
В китайской и тибетской (вплоть до XIV в.) традициях подлинность сутры ввиду ее происхождения не раз подвергалась сомнению, и даже в издании Тайсё китайской Трипитаки начала XX в. сутра была включена в том «сомнительных» текстов (кит. yisi Ьй\ Известный тибетский историограф XIV в. Будой Ринчендуб также сомневался в принадлежности сутры к слову Будды (буддхавачане). Тем не менее «Сутра о восьми светоносных» вошла в состав всех ксилографических изданий канонического свода Кагьюра группы Цэлпа, что говорит о том, что она все-таки была признана компиляторами тибетского канона как аутентичное буддийское писание.
Рассматривая историю формирования монголоязычных версий сутры, нужно сказать, что она считалась истинным словом Будды даже в начале становления монгольской письменной традиции, поскольку самый ранний из сохранившихся переводов сутры был выполнен в период династии Юань в XIV в. Одной из возможных причин такого отношения может являться сильное влияние на раннем этапе распространения буддизма в Монголии уйгурской традиции, в которой эта сутра была чрезвычайно популярна: до нашего времени дошло более 100 фрагментарных и полных образцов сутры на уйгурском (рукописи и ксилографы), а также комментариев к ней. Кроме того, в период правления династии Юань был выполнен перевод другого апокрифического текста китайского происхождения - «Сутры Большой Медведицы» («Сутры созвездия Семи мудрецов»), которая стала чрезвычайно популярна среди монголов и пропагандировалась как один из символов власти династии. На основании этого можно предположить, что отношение монгольских переводчиков к буддийским текстам китайского происхождения было довольно «свободным», т.е. наличие санскритского оригинала уже не было для них обязательным условием для определения аутентичности текста. Тем не менее в каноническом переводе «Сутры о восьми светоносных» в составе Ганджура отмечается стремление автора, самостоятельно восстановившего ее возможное санскритское название - «Арья-гаганабам-ашта-вайрочана-нама-махаяна-су-тра» (монг. А ry-a gagan-a bam. asta Bai ruujan-a па ma ma hayan-a sutr-a: арья - от санскр. arya ‘благородный’, гагана - от санскр. gagana ‘небо’, абам - возможно, от санскр. avani ‘земля’, ашта - от санскр. asta ‘восемь’, вайрочана - vairocana ‘светоносный, лучезарный’, нама - пата ‘называемый’, махаяна - mahayana ‘Великая колесница’, сутра - sutra ‘сутра, проповедь’), «легитимизировать» сутру как буддхавачану.
В тибето-монгольской литературной традиции можно выделить две основные версии сочинения: версию А, которая восходит к китайскому оригинальному тексту и была включена в состав канонического свода Кагьюра (Ганджура), и версию В, которая по содержанию отличается от китайских версий сутры и вошла в состав сборников буддийских ритуальных текстов тибетского происхождения «Сундуй» (тиб. gzungs bsdus) и «Доманг» (тиб. mdo mangs). Версия А в монгольской традиции (равно как и в тибетской) представлена ранним и поздним переводами, образцы которых мы хотим рассмотреть в данной статье.
Первый текст «Qutuy-tu oytaryui yajar-un naiman gegen neretu yeke kol-gen sudur» (‘Святая сутра Махаяны о восьми светоносных неба и земли’) под № 709 входит в 24-й том (раздел Dandir-a) ксилографического Ганджура 1729 г. [NG 1], но Л. Лигети датирует его первой половиной XIV в. и определяет как ранний перевод сутры [Ligeti 1971]. Второй текст «Bga-ggyur dotor-a orosiysan qutuy-tu todorqai ayujim naiman gegen kemegdekii sudur orosiba» (‘Святая сутра, входящая в состав Кагьюра, под названием «Восемь светоносных, ясных и обширных»’) [NG 2] был отпечатан в Бурятии в Анинском дацане отдельным ксилографом [Сазыкин 2004, 23] и в настоящее время хранится в рукописном фонде ИВР РАН (в каталоге А.Г. Сазыкина указан под № 2568) [Сазыкин 2001, 45]. Из заголовка текста, представляющего собой дословный перевод тибетского названия сутры во всех ксилографических изданиях Кагьюра - «Thagspa sangs rgyas kyi chos gsal zhingyangs pa snang brgyad ces bya ba 'i mdo» [Зорин, Митруев,
Сабрукова, Сизова 2019, 96], очевидно, что это перевод тибетской версии «Сутры о восьми светоносных» из одного из изданий Кагьюра. Поскольку период бурятского ксилографирования имеет определенные исторические рамки - 1829-1924 гг. [Сазыкин 2004, 9], этот ксилограф можно отнести к поздним переводам сутры.
Описание двух текстов мы будем давать по следующему образцу: вначале - данные колофона, затем - сравнение с оригинальным текстом: в первом случае - с китайским и уйгурским (в английском переводе), который переводчики могли привлекать в ходе работы, во втором - с тибетским. В заключительной части статьи мы сравним способы перевода некоторых философских терминов, относящихся к концепции школы йога-чара (она же - виджнянавада, читтаматра) о восьми сознаниях и даосизму, сильное влияние которого прослеживается в китайском оригинале сутры.
Итак, приведем текст колофона первого текста:
kitad-un пот-аса tamy-a yogacaris Krisis rincen nayirayul-un ayay-a tegimlig Suriyasiri-ber nemegesim lab yuyilayulju Namasiri baysi sayitur Jokiyaju biciguljil ariyun-a yadasiri kiged-iyer qabtasun-dur cuyulyaju ayui ulus irgen-e tiigeju del-geregillbei
‘Иогачарин, [практик учения маха]мудры, Таши Ринчен составил на основе китайского текста; досточтимый Сурьяшри собрал дополнительные пожертвования (?); учитель Намашри (Амлашри) искусно переписал; незапятнанный Га-дашри (Анандашри) и другие вырезали [текст] на деревянных досках, после чего распространили [сутру] среди большого количества людей’ [NG 1, 602].
Колофон содержит довольно подробную информацию о людях, принимавших участие в подготовке перевода к печати (составление переводного текста, подготовка ксилографических досок для вырезания, сбор пожертвований), и этим отличается от большинства аналогичных текстов, встречающихся в Ганджуре, в которых просто приводятся данные о переводчике или редакторе перевода. Ринчен Таши - это, вероятно, духовный наставник императора Ринчен Таши (тиб. Rin chen bkra shis) периода династии Юань [Oda 2015, 37]. На наш взгляд, неслучайным является указание в колофоне принадлежности переводчика к воззрению йогачары, поскольку в «Сутре о восьми светоносных» раскрываются положения этой школы и ее главный персонаж - основоположник школы Асанга. Исходя из датировки перевода началом XIV в., предложенной Л. Лигети (Ю. Ода предлагает более точные даты - 1329-1332 гг, на протяжении которых императорский наставник Ринчен Таши находился на государственной службе [Oda 2015, 37]), можно говорить о том, что в колофоне говорится об отдельном ксилографическом издании «Сутры о восьми светоносных», выполненном в первой половине XIV в.
Как предполагает П. Циме, большая часть упомянутых в колофоне имен имеет тюркское происхождение (среди уйгурских имен часто встречались имена санскритского происхождения с компонентом шри

(от санскр. sri ‘досточтимый’)) [цит. по: Oda 2015, 37]). Японский исследователь Ю. Ода указывает, что резчик Анандашри также участвовал в подготовке уйгурских ксилографических изданий «Сутры о восьми светоносных», «Сутры Ушнишавиджаи», «Сутры Амитабхи» и «Сутры Белозонтичной Тары» [Oda 2015, 37]. В «Каталоге петербургского рукописного Ганджура» в колофоне «Святой сутры под названием “Любящий” (Майтрейя)» упоминается некто Анандашри, великий пандита, сведущий в двух языках, переводивший сакьяского учителя Кунга Сенге при дворе Хайсан (Кулуг)-хана в 1307 г. (огня-овцы) [Каталог... 1993, 226-227]. Ранние монгольские переводы буддийских текстов часто демонстрируют тесную связь с уйгурской традицией, что объясняется тем, что их авторами вполне могли быть уйгурские учителя, которые распространяли учение Будды среди монголов. Указанные в приведенном колофоне сведения подтверждают значительную роль уйгуров в работе над ранним монгольским переводом «Сутры о восьми светоносных», который был позже включен в Ганджур.
Л. Лигети, сравнивший в своей статье «Autour du Sakiz Yukmak» уйгурский и монгольский переводы «Сутры о восьми светоносных», пришел к выводу, что они были выполнены с разных китайских версий [Ligeti 1971, 304]. Единственное отмеченное им сходство в переводе имен восьми бодхисаттв он объясняет тем, что авторы монгольского перевода могли пользоваться уйгурскими терминологическими словарями, а также сами могли быть по происхождению уйгурами [Ligeti 1971, 304]. Современный исследователь Ю. Ода, опубликовавший сводный уйгурский текст сутры с параллельным китайским оригиналом, сопровождаемые переводом на английский язык, считает, что монгольские переводчики обращались к позднему уйгурскому переводу сутры [Oda 2015, 50], с чем мы склонны согласиться.
Проведенный сравнительный анализ монгольского и уйгурского (в английском переводе) текстов «Сутры о восьми светоносных» с китайским оригиналом показывает, что в некоторых случаях уйгурский перевод вольный, или интерпретативный, что отмечает и Ю. Ода [Oda 2015, 47], а монгольский более точно следует китайскому тексту. Приведем несколько примеров:
-
1. Китайский текст (в переводе на английский): They turn their backs on the truth, turn towards the spurious, and commit various kinds of evil deeds. When their lives are about to come to an end, they will assuredly sink into the sea of suffering... [Oda 2015, 127].
-
2. Китайский текст (в переводе на английский): ...not to mention those who can copy it completely, uphold and recite it, and practice it according with the Dharma - as for their merits, they cannot be weighed, cannot be measured, and have no bounds [Oda 2015, 129].
-
3. Китайский текст (в переводе на английский): ...erect a house with a south hall, a north hall, an east wing, a west wing, a kitchen, guest rooms, gates and doors, wells and stoves, mortars and mills, storehouses, and pens for the six kinds of domestic animals... [Oda 2015, 136-137].
Монгольский текст: iinen-diir miirii-ben iijugulju: qudal-dur esergii qanduju: eldeb nigttl kdince uileduju: ecus-tiir iikiigsen-u qoyin-a emgeg-tti dalai-dur unaju...
‘...в конце после смерти они погружаются в океан страданий...’ [NG 1, 585].
Уйгурский текст (в переводе на английский): If any being copies this sutra or has it copied, reads it or has it read and completely in accordance with the Dharma reveres and worships it, the number of his good deeds cannot be reckoned... [Oda 2015, 129].
Монгольский текст: alibar kumtin cidaysanbar bicijii toytayaju ungsifu: ene nom-tur adali yabubasu: tegtin-u erdem-deki yayun oguletele: nereyidbesu tilu boluyu: caylabasu tilu boluyu: iijugur kijayar iigei bolai “ [NG 1, 586].
Уйгурский текст (в переводе на английский): On both the south side and the north side living quarters are to be built (In the southern quarter a summer room, on the north side a winter dwelling), on both sides, in the eastern quarter, a corridor, as well as a kitchen, a guest hall, large and small gates, a well, a fireplace, a stone mortar, a hand mill, storerooms and a stable for Igivestock through to a lavatory for people... [Oda 2015, 137].
Монгольский текст: ...emiin-e-dii ger: umar-a-du ger: doron-a-du ger: oriin-e-dti ger: bayurci ger: jocid-un ger: qayaly-a qotan qudduy: yolomta: nayur: tegerm-e: gtiu sang:jiryuyan juiladuyusun-ujedkegiir qoriyan...‘. ..[когда строят] дом [с комнатами] на юге, севере, востоке и западе, постоялый двор, гостиную, [ставят] ворота, [копают] колодец, [делают] очаг, пруд, мельницу, амбар, загон для шести видов скота, двор...’ [NG 1, 587].
Интересным представляется случай, когда термины, обозначающие двенадцать предзнаменований благоприятного / неблагоприятного дня (кит. shier zhi), в уйгурском тексте даются в дословном переводе, а в монгольском приведены в китайском звучании, причем Л. Лигети отмечает, что зафиксированные формы отражают произношение эпохи династии Цзинь [Ligeti 1971, 314]:
Монгольский текст: Jen си man bing dingji bo vei ceng siu bai [=kai] bi:: [NG 1,592].
Несмотря на значительные различия в монгольском и уйгурском переводах сутры, мы не можем утверждать отсутствие между ними связи. Очевидно, что второй вариант названия текста, который приводится по-
еле формулы поклонения Трем Драгоценностям и названия сутры на санскрите, тибетском и монгольском языках, - «Naiman jiul-iyer geyigsen gey-igiilugsen qutuy-tu ene tarni nigen jilil-til nom bicig» (‘Сочинение из одного свитка - эта святая дхарани, освещающая восемью способами’) - является переводом названия уйгурского позднего перевода «Tngri tngrisi burxan yrliqamis tngrili yirlita sdkiz torlilgin yarumis yaltrimis idug darni tana yip ally sudur nom bitig bir tagzinc» (‘Святая дхарани «Излучающая свет неба и земли восемью способами», писание, называемое «Руководство», данное Буддой, высшим из богов, один свиток’). Приведем несколько примеров, показывающих, что авторы монгольского перевода обращались к уйгур ским версиям сутры.
-
1. Китайский текст (в переводе на английский): ...they’ experience such suffering [Oda 2015, 119].
-
2. Китайский текст (в переводе на английский): ...a hundred monsters crying out like birds... [Oda 2015, 131].
Уйгурский текст (в переводе на английский): ...suffer much suffering. They’ do not know and understand their ignorant and perverse deeds so as to say, ‘My own deeds make me suffer this much. ’Thus, moreover, they reproach and rage against earth, heaven, the Buddha, the country, the king, and officials, saying, ‘They do not grant me blessings, they do not care. ’ [Oda 2015, 119].
Монгольский текст: teyin emgeg jobalang-ud kiirtejii biigetele: minii kii ober-iyen iiiledugsen nigiil kilinces-un siltay-a-bar eyin joban amui bi: kemen iilu meden iilu sedkin: taduru jici burqan bodhi satuva-nar-tur: tngri yajar-tur il qayan noyad esi-diir gemiireju ayurlqfu: nadur olfei qutuy iilu oggiim: namayi iilu asaram: iilu nigiilesum: iilu taciyam: kemen sayid qutuy-tan-dur cimadcu od iigei ayimascu: kilingleju... ‘Когда на их долю выпадают такие страдания, они не думают: «Я страдаю так из-за совершенных мной же грехов» - и даже не догадываются об этом, а, напротив, взваливают вину и злятся на будд и бодхисаттв, небо и землю, ханов и князей, бранясь: «Они не даруют мне счастье. Они не жалеют меня. Они не сострадают мне. Они не любят меня». Так они злятся и гневаются... ’ [NG 1, 584].
Монгольский текст: uyuli sibayun dongyodoju olan mayui iru-a beige bolju ‘появятся многочисленные неблагие предзнаменования, [такие как] крики совы [и пр.]’ [NG 1, 586].
Поскольку составителем перевода в колофоне назван Ринчен Таши (возможно, тибетец по происхождению), можно предположить, что при работе над монгольским переводом привлекались и тибетские версии сутры. Аналогичный тибетский текст сутры в составе Кагьюра в четыре раза меньше по объему китайского оригинального текста и, соответственно, монгольского перевода, что можно объяснить длительной редакторской работой компиляторов тибетского канона. Наиболее приближенными к китайскому оригинальному тексту сутры как в плане содержания, так и в плане объема являются дуньхуанские рукописи РТ 746 и РТ 749 [Oda 2015, 35], в которых представлен ранний тибетский перевод сутры, однако доступа к этим текстам у нас нет. Более поздний перевод, наиболее полно представленный в рукописи IOL Tib 463/1, в основном соответствует китайскому оригиналу, однако некоторые значительные по объему фрагменты организованы в иной последовательности [Tibetan Tantric Manuscripts... 2006, 206]. Предварительный сопоставительный анализ тибетского текста из Дуньхуана с монгольским текстом из Ганджура показывает, что оба перевода выполнялись с разных китайских версий и различаются по объему и структуре текста.
Одной из главных особенностей рассматриваемого монгольского перевода можно назвать отсутствующий в китайском и уйгурском текстах сутры фрагмент в начале текста, где описывается исходная ситуация - местопребывание Будды и его окружение в момент начала проповеди. Приведем его полностью:
Eyin кетен minii sonosuysan nigen cay-tur: ilaju tegiis nogcigsen burqan-nuyud: ariyun nom-ud-i delgerenggily-e nomlaysan: Vayisali neretii nom-tu torii-tii balyasun-dur: erdenis-iyer biitiigsen ayui yeke ordu qarsi-yin dotur-a inn: ilaju tegiis nogcigsen tiigemel beige bdig-tii Sakyamuni burqan-luy-a arban jug-iin burqan-nuyud-un ulus (olon?)-aca iregsen bodhi satuva-nar kiged: yisttn tumen naiman mingyan ayay-a tegimlig-iid kiged: arban jug-iin burqan bodhi satuva-nar kiged: Esrua Oormusta tngri kiged dorben maqaranja tngri-luge: tngri: gandaris dorben ayimay-luy-a kii-miin terigiiten nigen-e qamtu sayun boliige: tede biigiideger yeke ayay-a tegimlig-iid jayadun qan metii masida amurliysan: cuburil baraysan: nisvanis tigei sedkil masida teyin bilged toniluysan: bilig masida teyin bilged toniluysan: Hile ililedilgsen: iigiirge-ben gegegsen: ober-un tusa-yi oluysan: sansar-tur bardduyulqui uyuyata tasuluysan: degedil erketen-il sayin-i oluysan: asuru ariyun saysabad-tur sayitur ayci: ary-a bdig-iyer sayitur jokiyaysan: naiman tonilqu-yi iledte bolyaju cinadu kijayar-a kiiriigsen-i eyin uqaydaqui: amin yabiy-a-tu Adyandagondani (санскр. Ajnatakaundinya): amin yabiy-a-tu Asvaci (санскр. Asvajit): amin yabiy-a-tu Basvi (санскр. Vaspa): amin yabiy-a-tu Maq-a nami (санскр. Mahanama): amin yabiy-a-tu Badiragi (санскр. Bhadrika): amin yabiy-a-tu Ma-ha kasig (санскр. Maha-Kasyapa): amin yabiy-a-tu Urubila kasig (санскр. Uruvilva-Kasyapa): amin yabiy-a-tu Gay-a kasig (санскр. Gaya-Kasyapa): amin yabiy-a-tu Nadi kasig (санскр. Nadi-Kasyapa): amin yabiy-a-tu Saribudari (санскр. Sariputra): amin yabiy-a-tu Ma-ha Modgaliyani (санскр. Maha-Maudgalyayana): edeger terigilten-il dotor-a-aca Tilrbel tigei bodhi satuva sayuysan sayurin-acayan degegsi boscu: kars-a degel-iyen milriln-dilr-iyen nekejil: barayun ebildeg-iyer sogudcii alay-a-ban qamtudqaju: tngri-nar-un qayan kiimun-u baysi bodhi satuva-nar-un ecige: ilaju tegiis nogcigsen Sakyamuni burqan-dur eyin kemen ocibei
‘Так я слышал однажды. В праведном городе Вайшали, где Будды-Бхагаваны прошлого давали обширные Учения, в огромном дворце, выполненном из драгоценностей, вместе с Бхагаваном, обладающим всеохватывающей мудростью, Буддой Шакьямуни [пребывали] бодхисаттвы из обителей будд десяти направлений, девяносто восемь тысяч досточтимых монахов, будды и бодхисаттвы десяти

направлений, четыре класса [божественных существ] - Брахма и Индра, четыре махараджи, небожители и гандхарвы, люди и прочие [существа]. Все те великие монахи, [подобные] великим слонам, обретшие совершенный покой, исчерпавшие осквернения, обретшие великое освобождение ума, свободного от тревожащих эмоций, обретшие великое освобождение мудрости, исполнившие деяния, отбросившие груз [накопленной неблагой кармы], достигшие блага для себя, полностью отсекшие связи с сансарой, обретшие высшие способности чувствования, пребывающие в совершенно чистой нравственности, созидающие, сочетая мудрость и метод, реализовавшие восемь [видов] освобождения и достигшие другого берега [существования], - так следует понимать - досточтимый Аджнятака-ундинья, досточтимый Ашваджит, досточтимый Вашпа, досточтимый Маханама, досточтимый Бхадрика, досточтимый Маха-Кашьяпа, досточтимый Урувилва-Ка-шьяпа, досточтимый Гайя-Кашьяпа, досточтимый Нади-Кашьяпа, досточтимый Шарипутра, досточтимый Маха-Маудгальяяна [пребывали там]. [Находившийся] среди них бодхисаттва Асанга встал со своего места, накинул край монашеского одеяния на плечо, склонился на правое колено, сложил ладони [у сердца] и так обратился к Победоносному, Будде Шакьямуни, царю для небожителей, учителю для людей, отцу для бодхисаттв’ [NG 1, 582-583].
Для сравнения приведем аналогичные фрагменты в китайском и уйгурском текстах сутры:
Китайский текст (в переводе на английский): Thus have I heard. At one time the Buddha was staying in the Dharma-city Piye, in a spacious residence, attended by [bodhisattvas from] the ten directions and surrounded by the four groups [of believers]. Thereupon the bodhisattva Unimpeded, who was in the great assembly, rose from his seat, clasped his palms together, turned towards the Buddha, and said to the Buddha [Oda 2015, 112-113].
Уйгурский текст (в переводе на английский): What I have heard is as follows. Furthermore, at one time the Buddha, god (of gods), great among the great and endowed with perfect wisdom, was, in the Dharma-city called VaisalT in a spacious palace, conversing with many bodhisattvas who had come from the realms of Buddhas in the ten directions and with the fourfold assembly of this earth. At that time, the bodhisattva Unimpeded was in the midst of that multitude. Then he stood up from the seat where he had been sitting, (bared his robes on his right shoulder to one side,) knelt down, clasped his hands together, and made the following appeal to the Buddha, god (ofgods) [Oda 2015, 112-113].
В монгольском переводе сохранился перечень двенадцати бодхисаттв (досточтимых), сопровождаемый их эпитетами, который отсутствует в китайском и уйгурском текстах. Это можно объяснить двумя причинами: либо монгольские переводчики обращались к другой китайской версии сутры, либо самостоятельно вставили фрагмент (который они, возможно, рассматривали как композиционный элемент сутр) в повествование сутры. Перечень эпитетов архатов, аналогичный тому, что содержится в «Сутре о восьми светоносных», встречается в сутрах праджняпарамиты, в частности в «Аштасахасрика-праджняпарамите»: «...архаты, избавившиеся от пороков (ksTnsrava), незапятнанные (nihklesa), контролирующие себя, полностью освободившие сознание, полностью освободившие мудрость (suvimuktiprajna), [имеющие] благородное рождение, великие слоны, сделавшие, что нужно сделать, сделавшие, что следует сделать, удалившие бремя, достигшие своей цели, устранившие оковы бытия, полностью освободившие сознание благодаря правильному постижению, достигшие высшего совершенства с помощью контроля над всем сознанием...» [Александрова, Русанов 2014, 84-85].
Можно сделать следующие выводы: текст сутры из ксилографического издания Ганджура представляет собой ранний монгольский перевод начала XIV в., который в XVIII в. был включен в канон. Сложно судить о внесенных в текст редакторских правках, поскольку мы не располагаем первоначальным текстом, однако с большой долей вероятности можно предположить, что в перевод был вставлен лишь традиционный для канонических сочинений зачин с формулой поклонения Трем Драгоценностям и названием сочинения на санскрите, тибетском и монгольском языках. Второй вариант названия сочинения, как указывалось выше, соотносится с названием поздней уйгурской версии, и, очевидно, является первоначальным названием раннего перевода. Анализ языковых особенностей рассматриваемого перевода также позволяет отнести его к раннему, доклассиче-скому, периоду: в тексте встречаются случаи согласования определяемого и определения в числе ^ekes quvaray-ud, yekes bodhi saduva-nar, qamuy qarangqus, qamuy tamus), глагольная форма настояще-будущего времени на -т (asaram, oggilm, nomlam), показатели локатива -а / -е (burqan-a, ilaju tegils nogcigsen-e) (все указанные языковые явления характерны для древнемонгольских текстов [Орловская 2010, 233, 257]).
Далее перейдем ко второму тексту «Bga-ggyur dotor-a orosiysan qutuy-tu todorqai ayujim naiman gegen kemegdekil sudur orosiba» (‘Святая сутра, входящая в состав Кагьюра, под названием «Восемь светоносных, ясных и обширных»’) [NG 2]. Приведем текст колофона:
ilayuysan burqan-u sayin jarliy naiman gegen kemegdekil sudur egiini Anagiyin keyid-iln oglige-yin ejen Geleg-ber sayin sedkd-iyer keb-diir ceydegegsen buyan egilber jiryalang delgerekil-yin uya sdtayan bolqu boltuyai
‘Эту сутру под названием «Восемь светоносных», прекрасные изречения Победоносного, Будды, вырезал с благими помыслами милостынедатель Анинского дацана Гелег (от тиб. dge legs). Пусть благая заслуга от этого станет главной причиной для процветания благоденствия’ [NG 2, л. 23а].
Типография Анинского дацана Гандан Шаддублинг (от тиб. dga’ Idan bshad sgrub gling), который был построен в 1811 г, начала официальную издательскую деятельность в 1880 г. [Сыртыпова, Гармаева, Базаров 2006, 67-68]. В каталоге монголоязычных печатных изданий дацана «An-a-gyin dasang-du sine barlaydaysan nom-ud-un neres апи» (‘Новые ксилографические издания Анинского дацана’), сохранившемся в трех вариантах (из 14, 21 и 23 наименований), текст сутры отсутствует: как отмечает Х.Ж. Гармаева, «значительное количество монгольских книг этого дацана оставалось без какого-либо учета после издания этих трех гарчаков» [Сыртыпова, Гармаева, Базаров 2006, 67-68]. Исходя из того, что последнее издание каталога датируется 1882 или 1894 гг, можно предположить, что рассматриваемый ксилограф «Сутры о восьми светоносных» был отпечатан в период между 1882 (1894)-1924 гг.
Кроме того, в колофоне сочинения указано имя резчика - Гелег. Х.Ж. Гармаева пишет о том, что резчиками матриц могли быть малограмотные араты, выполнявшие заказы от дацанов и частных лиц [Сыртыпова, Гармаева, Базаров 2006, 69], однако в рассматриваемом тексте резчик также назван милостынедателем (pglige-yin ejen) Анинского дацана, что может свидетельствовать о его более высоком социальном статусе. Подготовка ксилографических матриц сакрального текста, приравниваемая к его переписыванию от руки, вплоть до настоящего времени считается большим благодеянием для всех буддистов. В самом тексте сутры говорится об этом:
naiman gegen-i usug-tur bicigsen buyu: ungsiysan buyu: aman-u ungsily-a bolyabasu: buyan-u соуса caylasi ilgei-luge tegiiskii boluyu
‘Если переписать «[Сутру] о восьми светоносных», прочитать ее или попросить кого-либо прочитать вслух, ты будешь исполнен безграничного собрания благих заслуг’ [NG 2, л. 21Ь].
Хотя данные колофона позволяют нам определить время печати бурятского ксилографического издания «Сутры о восьми светоносных», в нем не указаны данные об авторе самого перевода. Можно предположить, что при подготовке матриц использовался анонимный рукописный перевод, бытовавший на территории Бурятии. Из языковых особенностей текста можно назвать частое использование частицы локатива -а / -е, которая, как правило, в классическом монгольском языке заменяется частицами -dur (-dur) / -tur (-tiir): burqan bodisadu-a-nar-a, ilaju tegiis nogcigsen-e, yajar-a. Этот перевод можно охарактеризовать как буквальный, следующий строке тибетского оригинала (в качестве условного оригинального тибетского текста нами взят текст сутры из сводного издания Кагьюра [Snang brgyad]). Приведем несколько примеров:
-
1. Монгольский текст: arban jug-iin bodisadu-a-nar kiged: tngri mangyus naiman ayimay terigilten-iyer ilaju tegiis nogcigsen-i takin maytayad: olan ciyulyad-un dotor-aca bodisadu-a Tiirbel iigei kemekii-ber alayaban qabsuraju: ilaju tegiis nogcigsen-e eyin kemen ocibei [NG 2, л. 2a-2b],
-
2. Монгольский текст: kdince-yin iiile-niigiid olan-i ililedilgcid ber naiman ge-gen egilniyidam bolyaju ungsibasu... [NG 2, л. 4b],
-
3. Монгольский текст: пот-ип sudur egilni ungsiyad delgerenggiii nomlabasu tegiincilen iregsen-ii bey-e mon-diir iijemui [NG 2, л. 9b],
Тибетский текст: phyogs bcu7 byang chub sems dpa' dang / Iha ma srin sde brgyad la sags pas bcom Idan 'das la mchod cing bstod nas / tshogs mang po 4 nang nas byang chub sems dpa' Thogs pa med pas that mo sbyar te / beam Idan 'das la 'dis skad ces gsol to [Snang brgyad, 811].
Русский перевод: в десяти направлениях бодхисаттвы, небожители, демоны и прочие из восьми классов почтили и воздали хвалу Бхагавану, из многочисленного собрания [вышел] бодхисаттва Асанга, сложил ладони [у сердца] и так обратился к Бхагавану.
Тибетский текст: sdigpa 'i mam pa mangpo byas pas snang brgyad 'di yi dam du by as te bton na ... [Snang brgyad, 812].
Русский перевод: если те, кто совершает множество неблагих деяний, сделают своим духовным обязательством эту «[Сутру о] восьми светоносных» и будут читать ее...
Тибетский текст: chos kyi mdo 'di bklags siting rgyas par bshad na de bzhin gshegs pa’i sku yin par blta’o [Snang brgyad, 814].
Русский перевод: если кто-то читает эту истинную сутру и подробно ее объясняет, [такого человека нужно] воспринимать как воплощение Татхагаты.
По второму тексту можно сделать следующие выводы: в основу бурятского ксилографического издания «Сутры о восьми светоносных», напечатанного на рубеже XIX XX вв. в типографии Анинского дацана, лег анонимный перевод, выполненный в технике буквального перевода с тибетского текста сутры из одного из изданий Кагьюра.
В рамках данной статьи интересно также рассмотреть различные способы перевода некоторых терминов, относящихся к йогачаринской концепции о восьми сознаниях и одной из даосских бинарных оппозиций (инь - ян) и встречающихся в двух рассматриваемых переводах.
NG 1: yekes naiman gegen кетеп nereyidbe kemebesti: nidiin ongge-yi medeyti: cikin dayun-i sonosuyu: qabar iiniir-i medeyti: kelen amtan-i medeyti: bey-e kiirtekui-yi medeyti: sedkil ilyal iigei-yi medeyti: nisvanis-tu medekui-yi medeyti: qamuy-un sitiigen medektii kiged-i naiman kemebesti: cinar-un qoyosun but ‘Если говорить о том, что названо восемью великими светоносными, [эти] восемь [следующие]: глаза, которые постигают форму; уши, которые слышат звуки; нос, который чувствует запахи; язык, который ощущает вкусы; тело, которое испытывает ощущения; рассудок, который постигает отсутствие различий [между ними]; сознание омрачений-клеш и сознание - сокровищница всего (алая-виджняна). Суть этих восьми - пустота’ [NG 1, 597].
NG 2: nidiin diirsii-yi teyin medekii mon: cikin dayun-i teyin medekii mon: qabar uniir-i teyin medekii mon: kelen amtan-i teyin medekii mon: bey-e kiiriilcegdekiin-i teyin medekii mon: sedkil ilyal ilyaqu-yi teyin medekii mon urida jiryuyan-i medeged bardduysan-i medekii inu anggida busu bilged: qotala sitiigen-ii teyin medel-luge naiman bolai: naiman teyin medel-iin: uytusun kiged bodu anu qoyosun bilged amurlingyui but
‘сознание глаз, воспринимающих форму, сознание ушей, постигающих звуки, сознание носа, чувствующего запахи, сознание языка, постигающего вкусы, сознание тела, воспринимающего ощущения, рассудочное сознание, выделяющее категории, сознание, которое связывает воедино то, что воспринято предыдущими шестью [сознаниями], и неотделимо [от них] и сознание - сокровищница, итого восемь. Суть этих восьми сознаний - пустота и покой’ [NG 2, л. 19Ь-20а].
Используемый в переводе термин «сознание» в данном случае относится к санскритскому vijnana. О.О. Розенберг указывает синонимический ряд санскритских слов с этим значением - «читта», «манас», «виджня-на», - которые различаются лишь тонкостями философского анализа. «Читта» - «единая дхарма сознания»; «виджняна» - то же сознание, но рассмотренное с точки зрения его содержания; «манас» - сознание предыдущего момента, служащее опорой для сознания следующего момента [Розенберг 1991, 153]. Иогачарины, как пишет 0.0. Розенберг, выделяли шесть разновидностей виджняны, связанных с органами чувств, седьмое сознание «манас» как совокупность всех шести в смысле сознания предыдущего момента и восьмое - «алая-виджняна» (сознание-вместилище) [Розенберг 1991, 153].
Приведенные фрагменты показывают, что в двух канонических переводах сутры термины немного различаются: объект постижения сознания глаза - форма - в раннем переводе передается как ongge, букв, ‘цвет’, во втором - как diirsu, букв, ‘форма, вид’; объект постижения сознания тела -ощущения - также переведен двумя разными словами: kiirtekui ‘достигнуть, касаться’, kiirulcegdekiin - форма страдательного залога от kiiriilcekii ‘вместе достигнуть, касаться’. Стоит отметить различные способы перевода термина, обозначающего седьмое сознание: в раннем переводе это nisvanis-tu medekiii ‘сознание омрачений-клеш’, а в позднем, следующем тибетскому оригиналу, - urida jiryuyan-i medeged barilduysan-i medekii ‘сознание, которое связывает воедино то, что воспринято предыдущими шестью [сознаниями]’ (см. тиб. snga та drug shes shing 'brelpar shes pa). Термин «сознание омрачений-клеш» не встречается ни в китайском оригинальном тексте, в котором седьмое сознание определяется как «сознание сокровищницы всего знания» (consciousness of the storehouse of all knowledge), ни в уйгурских версиях, где оно переведено как «сознание ума (цепляния), называемое “'адира”» (consciousness of the mind (grasping) called adi'ra) или «сознание, осознающее разделение» (differentiating-aware consciousness) [Oda 2015, 219-220]. Этот термин можно рассматривать как результат осмысления этого понятия автором раннего монгольского перевода Ринчен Таши.
Далее представим способы перевода терминов традиционной китайской культуры «инь» и «ян»:
NG 1: tngri ary-a buyu: yajar bilig buyu: naran ary-a buyu: saran bilig buyu: usun ary-a buyu: yal bilig buyu: uqun ary-a buyu: okin bilig buyu ‘Небо - это ян (букв, ме- тод), земля - это инь (букв. мудрость). Солнце - это ян, луна - это инь. Вода - это ян, огонь - это инь. Юноша (это слово, не обнаруженное в словарях, переведено как «юноша», поскольку в паре uqun-okin мы усматриваем случай противопоставления по роду с использованием закона сингармонизма, встречающегося в ранних монгольских текстах доклассического периода [Орловская 2000, 25]) - это ян, девушка - это инь’ [NG 1, 594].
NG 2: oytaryui inn ecige: yajar inn eke: saran inn er-e:: naran inn em-e ‘Небо -это ян (букв. отец), земля - это инь (букв. мать). Луна - это ян (букв, мужчина), солнце - это инь (букв, женщина)’ [NG 2, л. 16а].
В раннем переводе для передачи этих терминов используется парный буддийский термин «метод-мудрость» (тиб. thabs shes rab, монг. ary-a bilig\ традиционно отождествляемый в тибето-монгольском буддизме с разделением на мужское-женское. В «Большом монгольском традиционном словаре» дается следующая трактовка этих понятий:
Ол хоол олох, емсех, немрех немердех юм хийх, ештен дайсан, аюулт араат-наас зугтах, нуугдах зэрэг аргыг аав нъ олж бусдыгаа дагуулан сургаж байснаас аавыгаа «арга» хэмээн ур хуухдээ теруулэн тэжээх, ус ундыг нъ хадгалан егч ухаан санааг нъ зааж егдег байснаас ээжийгээ «билиг» гэжээ
‘Поскольку отец несет ответственность за то, чтобы найти пропитание и одежду, скрыться от врагов и опасных хищников, и обучает этому других [членов семьи], отца называют «метод». Поскольку мать несет ответственность за то, чтобы рожать и воспитывать детей, беречь еду, воспитывать, мать называют «мудрость»’ [Монгол ёс заншлын их тайлбар толь 2000, 320].
Интересно отметить, что в китайском оригинальном тексте, возможно, из-за ошибки переписчика, к «ян» относится то, что в переводах относится к «инь», и наоборот: heaven is yin and earth is yang, the moon is yin and the sun is vang, water is vin and fire is vang, man is vin and woman is vang [Oda 2015,197].
В позднем монгольском переводе термины «ян» и «инь» переданы двумя оппозициями - ecige eke ‘отец-мать’ и ег-еет-е ‘мужчина-женщина’ (см. в тибетском тексте: gnam ni stangs / sa ni 'byal /zla ba ni pho / nyi ma ni то ‘небо - господин, земля - госпожа, луна - мужчина, солнце - женщина’).
Рассмотрение двух монгольских канонических переводов «Сутры о восьми светоносных» показало, что они различаются по времени составления и были выполнены с разных оригинальных текстов. В ксилографическое издание монгольского Ганджура был включен ранний перевод, выполненный в первой половине XIV в. Ринченом Таши на основе китайского текста. Сопоставительный анализ с уйгурскими версиями сутры показывает, что автор раннего перевода в ходе работы над текстом мог привлекать их. Данные колофона также свидетельствуют об активной роли уйгуров в подготовке ксилографического издания сутры на монгольском языке. Поздний канонический перевод сутры был отпечатан в ксилографическом виде в Бурятии в Анинском дацане в период 1882 (1894)—1924 гг. В колофоне указано только имя резчика печатной матрицы - Гелег, авторство самого перевода определить сложно. С определенностью можно сказать, что включенный в издание перевод выполнен с тибетского текста «Сутры о восьми светоносных» из одного из тибетских ксилографических изданий Кагьюра.
Список литературы О двух монгольских переводах «Сутры о восьми светоносных неба и земли»
- Александрова Н.В., Русанов М.А. К поэтике махаянской сутры (вступительные главы вайпулья-сутр) // Зографский сборник. Вып. 4 / отв. ред. М.Ф. Аль-бедиль, Я.В. Васильков. СПб., 2014. С. 77-112.
- Зорин А.В., Митруев Б.Л., Сабрукова С.С., Сизова А.А. Каталог сочинений тибетского буддийского канона из собрания ИВР РАН. Вып. 2: Индексы. СПб., 2010.
- Каталог Петербургского рукописного «Ганджура» / сост., введ., транслит. и указ. З.К. Касьяненко. М., 1993.
- Монгол ёс заншлын их тайлбар толь. Улаанбаатар, 2000.
- Орловская М.Н. Язык монгольских текстов XIII-XIV вв. М., 2000.
- Орловская М.Н. Очерки по грамматике языка древних монгольских текстов. М., 2010.
- Розенберг О.О. Труды по буддизму. М., 1991.
- Сазыкин А.Г. Каталог монгольских рукописей и ксилографов Института востоковедения Российской академии наук. Т. II. М., 2001.
- Сазыкин А.Г. Каталог бурятских ксилографированных и литографированных изданий из коллекций Санкт-Петербурга. Киото, 2004.
- Сыртыпова С.Д., Гармаева Х.Ж., Базаров А.А. Буддийское книгопечатание XIX - нач. XX вв. Улан-Батор, 2006.
- Ligeti L. Autour du Säkiz yükmäk yaruq // Studia Turkica / ed. by L. Ligeti. Budapest, 1971. P. 291-319.
- Oda Ju. A Study of the Buddhist Sütra called Säkiz Yükmäk Yaruq or Säkiz Tör-lügin Yarumïs Yaltrïmïs in Old Turkic. Berliner Turfantexte XXXIII. Turnhout, 2015.
- Tibetan Tantric Manuscripts from Dunhuang. A Descriptive Catalogue of the Stein Collection at the British Library / by J. Dalton and S. van Schaik. Leiden-Boston, 2006.