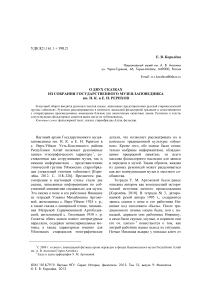О двух сказках из собрания Государственного музея заповедника им. Н. К. и Е. И. Рерихов
Автор: Королва Елена Владимировна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
В научный оборот вводятся рукописи текстов сказок, записанных представителями русской старожильческой группы «оймонов». Рукописи рассматриваются в контексте локальной фольклорной традиции и сопоставляются с литературными произведениями, имеющими близкие или аналогичные сюжетные линии. Рукописи и тексты сопутствующих фольклорных сюжетов ранее нигде не публиковались.
Фольклорный текст, сказки, старообрядцы алтая, фольклор
Короткий адрес: https://sciup.org/147218957
IDR: 147218957 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи О двух сказках из собрания Государственного музея заповедника им. Н. К. и Е. И. Рерихов
Научный архив Государственного музея-заповедника им. Н. К. и Е. И. Рерихов в с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай включает рукописные записи этнографического характера 1, составленные как сотрудниками музея, так и самими информантами – представителями этнической группы Уймонских старообрядцев (локальный этноним «оймоны») [Королёва, 2012. С. 318–326]. Предметом рассмотрения в настоящей статье стали две сказки, записанные информантами по собственной инициативе специально для музея. Это сказка о попе и его работнике Никишке из тетрадей Ульяны Михайловны Аргоко-вой, жительницы с. Верх-Уймон 1924 г. р., а также сказка о священной птице, записанная Матреной Серапионовной Артоболевской, жительницей с. Тихонькая 1930 г. р. Сюжеты обеих сказок имеют литературные параллели, содержат антиклерикальные мотивы, а также характерные именно для Уймонских старожилов этнографические детали, что позволяет рассматривать их в контексте традиционной культуры «оймо-нов». Кроме того, обе сказки были сознательно выбраны информантами, обладающими прекрасной памятью, из всего массива фольклорного наследия для записи и передачи в музей. Таким образом, каждая из данных рукописей может расцениваться как акт коммуникации музея и местного сообщества.
Тетради У. М. Аргоковой были ранее описаны автором как комплексный исторический источник личного происхождения [Королёва, 2010]. В тетради № 3, датированной рукой автора 1995 г., содержится запись сказки о попе и его работнике Ни-кишке под заголовком «Быль». После традиционного зачина «жили были, поп с попадьей, держали они работника Никишку, а сами были скупые, скупые, и кормили они его оч. плохо» 2 повествуется о том, как хитрый работник нашел выход из ситуации. Ночью Никишка выкрал у попадьи ключ от кладовой («…а там што только ни было, даже там хронились иконы»), наелся досыта, намазал иконам сметаной рты и «на лямку сарафана ей привязал ключ обратно». Утром попадья, подоив коров, пошла в кладовую, чтобы «…процедить молоко в кринки», увидела иконы и позвала мужа: «Смотри иконы наелись сметаны в пост». Поп «...взял плеть и надрал иконы». На следующую ночь Никишка опять наелся и спрятал иконы. Попадья решила, что иконы «…осер-дились и ушли», и вместе с мужем они умоляют работника найти пропажу. Тот соглашается за обещание его впредь хорошо кормить.
Сказка изложена простым разговорным языком. В тексте присутствуют диалектные слова, а также диалектные формы слов, что подтверждает местное бытование сказки.
Сюжет «Были» относится к распространенной в Сибири сюжетной группе сатирических русских сказок о нерадивом попе и его работнике [Соболева, 1984], где последний выступает не только в роли трикстера, наказывающего попа, но и в роли посредника между попом и «нечистой силой» или «святыми». В электронном Сравнительном указателе сюжетов 3 приведен аналогичный образец № 1572А*=К 1777, который отсылает к сборникам белорусских, русских и украинских сказок. В литературной форме подобный сюжет представлен в «Сказке о попе и его работнике Балде» А. С. Пушкина. Однако наиболее близким литературным аналогом «Были» является одна из глав романа Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле» [1983. Ч. 3, гл. 6.], по-видимому, имеющая своим истоком средневековую фламандскую лубочную книгу Het Aerding Leben van Thyl Uylenspiegel, изданную в 1515 г. Здесь также идет речь о наказании священником изображений святых, которые якобы украли и съели скоромную пищу в пост.
Примечателен заголовок сказки «Быль», выделенный автором рукописи более яркими чернилами и подчеркиванием. На протяжении всей своей истории с конца XVIII в. этническая группа «оймонов» с конфессиональной точки зрения была старообрядческим сообществом, противопоставлявшим уставщиков и начетчиков из числа своих односельчан, а также легендарных беловод-ских архиереев «сирского поставления» «неистинным» священникам «никонианской церкви». Характеризуя конфессиональную ситуацию в Уймонской степи, протоиерей Д. Н. Беликов цитирует донесение исправника из Бийского уезда: «В Уймонском-же крае нет ни одного православного, и на расстоянии 300 верст ни одного селения откуда я мог бы получить помощь». Тот же исправник описывает, как в 1865 г. он получил энергичный отпор от хорошо организованного местного сообщества при попытке соблюсти все административные формальности, связанные с началом строительства православной церкви в Усть-Коксе [1894. С. 105–107]. В 1860-х гг. на фоне широкого распространения слухов о высочайшем даровании свободы вероисповедания [Там же. С. 127–139] и противостояния с официальным православием, пытавшимся дать опровержение слухам, оймонские старожилы осуществляют массовое строительство моленных 4.
В настоящее время большинство информантов отождествляет себя со «стариковским» (часовенным) согласием, у коренных «оймонов» в целом довольно поверхностные представления о конфессиональных различиях старообрядческих согласий, присутствуют отдельные упоминания о спасо-вом и «австрийском» (белокриницком) согласиях в прошлом 5. Священники и активные проповедники православной церкви Московского патриархата (РПЦ), построенной в Усть-Коксе в конце 1990-х гг., и Белокриницкой церкви (РПСЦ), построенной на Мульте в начале 2000-х гг., все являются недавними мигрантами, хотя последняя активно пополняет свой приход за счет молодых мультинцев. Поэтому запись сказки о скупом попе в 1995 г. под заголовком «Быль» может быть своеобразным откликом У. М. Аргоковой на скоропалительную церковную реставрацию постсоветского периода.
Косвенным подтверждением подобной мотивации информанта могут служить популярные в Верх-Уймоне современные ис- тории о настоятеле церкви в Усть-Коксе, которые в силу многократного пересказа разными рассказчиками уже сами могут быть отнесены к фольклорному жанру. В первой рассказывается о том, как для модной среди региональных чиновников процедуры «освящения» нового маральника директор бывшего совхоза (ныне OOO «Инициатива») С. И. Огнев, коренной местный житель и потомственный старообрядец, пригласил православного священника (отца Александра) из Усть-Коксы. Комизм ситуации для местных рассказчиков заключается уже в самом присутствии священника РПЦ в исконно старообрядческом селе. Как бы подтверждая нелепость церемонии, священник в данной истории сразу после завершения службы наступает в кизяк и отпускает «четырехэтажное» ругательство по этому случаю 6. В другой истории повествуется о том, «как отец Александр крестил Башта-линское озеро», священное для алтайцев (Оймон-кижи). По пути к озеру на священника «нападали алтайские духи» (дул ветер, шел дождь), сопротивление которых тот «успешно преодолел» 7. Здесь, с точки зрения рассказчиков, юмор заключается в совершении неуместного обряда над природным объектом, а также в самой борьбе священника с «алтайским язычеством». С точки зрения коренных Уймонских старообрядцев, алтайцы не совершают на озере ничего предосудительного, просто исповедуют «свою веру». По мнению респондентов, истинно верующему православному христианину никакие «духи» мешать не будут, а, возможно, будут и помогать: полевые наблюдения свидетельствуют, что значительная часть алтайских традиционных ритуалов и верований ассимилирована смешанной русско-алтайской группой «оймо-нов» и продолжает бытовать в традиционной форме, но уже на русском языке.
Современные истории и сказку о попе и работнике Никишке сближает мотив десакрализации священства. По традиционным представлениям «оймонов», одно прикосновение к иконам без должного почтения, непокрытыми руками грозит молодому человеку Никишке страшными бедами 8. Однако все то, что принадлежит нерадивому попу, не свято, потому и иконы его оказываются на проверку не истинными, да и хранятся они почему-то в кладовой 9. Также и обряд освящения маральника в рассказе отождествляется с актом обругивания кизяка, что неизменно подчеркивается респондентами интонационно. Любопытно, что уничижительное сопоставление церковного причастия с рыганием или пение откровенно скабрезных песен во время церковного хода и тому подобные действия были, по сообщению Д. Н. Беликова, достаточно распространенной реакций старообрядческого населения на проведение «никонианских» обрядов в их селах в XIX в. [1894. С. 138].
«Сказка о священной птице» была записана Матреной Серапионовной Артоболевской в 2006 г. специально для внучки Ольги Александровны Чернышевой, которая работала научным сотрудником в музее. Для записи использованы шариковая ручка и два листа (разворот) из школьной тетради в клетку. Стилистические особенности текста позволяют уверенно идентифицировать «сказку» с жанром литературной притчи. По-видимому, в данном случае можно говорить об устном бытовании литературного произведения. Эти особенности заметны уже в зачине:
«Летит по Миру священная птица. Птицам хищным, птицам нечестивым надо ее уничтожить. Убить. Гонятся они за птицей, а она все летит и летит. Эта птица летит к человеку Святому Безгрешному» 10.
Птица минует города, церкви и священников с иконами и книгами, которые уговаривают ее остаться у них, улетает в поле и из последних сил падает в ноги к «оратаю» и обращается к нему: «Никому меня не отдавай. Я твоя». Далее происходит примечательный диалог, который, по-видимому, и заключает основной смысл сказки:
«Сказал священник: “Зачем она тебе? Кто ты такой и что ты сделал?”
– Я пахарь. Всю жизнь земельку пашу, хлебушко ращу, да людей немощных кормлю.
– Да ты хоть в храме то бывал?
– Нет.
– А молитву знаешь?
– Знаю Господи Иисусе. Больше не знаю.
– Да ты хоть крещеный?
– Не знаю».
В заключение Матрена Серапионовна в лучших старообрядческих традициях дает ссылку на первоисточник: «Рассказала мне это Котова Татьяна Андриановна родом из Вятки, г-р примерно 1860–1870 сюда пришли 1880 г. это моя бабушка с маминой стороны».
В пользу версии о возможном наличии литературного первоисточника говорит использование не встречающегося в современной речи старожилов архаизма «оратай». С учетом личных особенностей рассказчицы – конфессионально грамотной, читающей и понимающей кириллические книги М. С. Артоболевской – следует допустить возможность пересказа ранее прочитанного литературного произведения религиозного содержания.
И хотя достаточно близкого по сюжету литературного аналога найти пока не удалось, мотив «священной птицы и оратая (пахаря)» встречается в русской поэзии начала XIX в. Так, например, в стихотворении Н. И. Гнедича «Ласточка» главной героине посвящены такие строки:
«Божия птица, как набожный пахарь тебя называет:
Он как священную птицу тебя почитает и любит».
Поэт упоминает о народном почитании ласточки и приводит обосновании ее «святости»: «Чистая птица во прахе земном ты ног не покоишь». Далее поэт дает такую характеристику ласточке: «Птица любови и мира, всех птиц ненавидишь ты хищных. Первая, криком тревожным – домашним ты птицам смиренным весть подаешь о налете погибельном коршуна злого» 11. Таким об- разом, у Гнедича присутствуют не только мотив «священной птицы и пахаря», но и мотив «хищных птиц-преследователей», что позволяет говорить о наличии общего для стихотворения и сказки образного ряда, связанного с птицей, особо почитаемой в крестьянской среде.
Святость земледельческого труда провозглашает современник Н. И. Гнедича поэт Е. А. Баратынский. В стихотворении «Осень» он использует образ крестьянина – «оратая», как камертон, меру ценности и истинности для всякого другого вида человеческой деятельности и одновременно как универсальный символ человеческой души, которую он называет «оратай жизненного поля» [Баратынский, 1983. С. 295–301].
С точки зрения современной конфессиональной культуры «оймонов», удивительным представляется ответ пахаря на вопрос о крещении. Старообрядческое крещение у наставника, совершаемое в открытом водоеме при обязательном участии крестных родителей («лёлек»), является непременным условием инкорпорации в местное сообщество. Это событие на сегодняшний день можно назвать публичным, потому что подготовка к нему не скрывается, начинается заблаговременно и может быть обставлена торжественно. Обычай взаимного гостеприимства между кровными и крестными родственниками в праздничные дни церковного календаря остается важнейшим механизмом поддержания горизонтальных социальных связей, и в том числе института «помочей». Неведение в вопросе крещения означает автоматически отсутствие крестных родственников и даже потребности в них, что делает ответ сказочного «оратая» нетрадиционным. Возможным объяснением такого ответа может стать происхождение сказки из среды другого конфессионального сообщества, что в местных условиях вполне возможно и соответствует указанию информанта о вятском первоисточнике.
В то же время ответ на вопрос о посещении храмов и знании молитв вполне соответствует местным реалиям, потому что глубокая конфессиональная грамотность и посещение моленной становятся обязательным только в старости. Нужно ли говорить о том, что избегание «священной птицей» городов, храмов и священников делает ее по-настоящему «божественной» в глазах Уймонских старообрядцев.
Обращая внимание на образ «человека Святого Безгрешного», как цель поиска «священной птицы», следует упомянуть о присутствии мотива избранничества в различных фольклорных текстах «оймонов». Так, «страну истинного священства» Беловодье, маршрут следования к которой через пустыню Гоби, Лоб-Нор и предгорье Тибета был вдоль и поперек исхожен уймонцами-торговцами [Королёва, 2007. С. 91–95], в многочисленных вариантах пересказа этого сюжета могут достичь только избранные и призванные. Трансформированный в современных реалиях мотив избранничества, по-видимому, рождает феномен, описанный В. В. Кобко для приморских «синьцзянцев», которые «о праведной благочестивой стране Беловодье» знают, но говорят «с явным скепсисом» [2004. С. 12–13]. Аналогичным образом при пересказе истории, как один уймонский новобранец, служивший в Армении, видел нетронутый тлением ковчег на горе Арарат, рассказчица Л. Е. Захарова неоднократно подчеркивала, что поиски «чуда» ни к чему не приведут, потому что достичь ковчега может только «тот, кому дано». Такая же точно интерпретация была дана жительницами с. Верх-Уймон Л. Е. Захаровой и ее родственницей В. А. Басаргиной для неудачи в современных поисках мегалитов, виденных в юности среди отрогов Холзуна старожилом из с. Мульта М. М. Огневым, несмотря на то, что инициатором поисковой экспедиции был сам М. М. Огнев. Рациональные аргументы в пользу того, что мегалиты могли быть повалены недавним землетрясением 2003 г. или находятся не совсем в том районе, где искали, были уверенно отвергнуты информантами.
Таким образом, обе сказки из научного архива Государственного музея-заповедника им. Н. К. и Е. И. Рерихов являются органической частью традиционной культуры Уймонских старожилов. Характерно, что сюжеты сказок имеют литературные параллели, значительно удаленные во времени и пространстве от места и времени их записи. Мы имеем дело с расхожими литературными сюжетами, в том числе с международными, пересказанными и записанными в контексте конкретной фольклорной традиции.
Сопоставление современных полевых материалов с более ранними свидетельства- ми показывает, что не только антиклерикальные настроения, представленные в текстах сказок и в сопутствующей устной традиции, но и сами способы их выражения остаются глубоко традиционными в рассматриваемом старообрядческом сообществе.
Примечательным представляется факт намеренной записи сказок носителями фольклорного наследия, а следовательно, сознательно осуществленный ими перевод текстов из устной традиции в письменную. В определенной степени обе сказки содержат то, что Уймонские старожилы хотели бы сообщить о себе «мирским», т. е. во внешний (а значит, грешный и суетный) мир. Авторизированные записи фольклорных текстов, созданные Уймонскими старожилами, характеризуют процесс формирования исторического самосознания Уймонского субэтноса.
Список литературы О двух сказках из собрания Государственного музея заповедника им. Н. К. и Е. И. Рерихов
- Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Новосибирск: Наука, 1983.
- Беликов Д. Н. Томский раскол (исторический очерк от 1834 по 1880-е годы). Томск: Типо-литография Макушина И. И., 1894.
- Кобко В. В. Старообрядцы Приморья: история, традиции (середина XIX в. - 30 гг. ХХ в.). Владивосток, 2004.
- Королёва Е. В. Этническая самоидентификация Оймонских старожилов по материалам автобиографических воспоминаний Аргоковой У. М. и Солонкиной С. И. // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых: Сб. материалов II Всерос. молодежной конф. Новосибирск: Параллель, 2012.
- Королёва Е. В. «Тетради» Ульяны Михайловны Аргоковой из собрания Государственного музея-заповедника им. Н. К. иЕ. И. Рерихов // Гуманитарные науки в Сибири. 2010. № 4. С. 90-93.
- Королёва Е. В. Торговля и пути сообщения России с государствами Центральной Азии в истории заселения русскими Юго-Восточного Алтая // Усть-Коксинские архивные чтения. Барнаул, 2007. Вып. 1.
- Соболева Н. В. Русские народные сатирические сказки Сибири в записях XIX- ХХ вв.: Дис. … д-ра ист. наук. Киев, 1984. URL: www.dissercat.com/content/russkie-na-rodnye-satiricheskie-skazkisibiri-v-zapisyakh-xix-xx-vv
- Шарль де Костер. Легенда об Уленшпигеле. М.: Худож. лит., 1983.