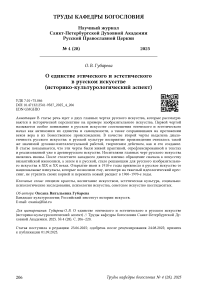О единстве этического и эстетического в русском искусстве (историко- культурологический аспект)
Автор: Губарева О.В.
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теория и история культуры, искусства
Статья в выпуске: 4 (28), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье речь идет о двух главных чертах русского искусства, которые рассматриваются в исторической перспективе на примере изобразительного искусства. Первой чертой называется особое понимание в русском искусстве соотношения этического и эстетического начал как антиномии их единства и самоценности, а также сохранявшаяся на протяжении веков вера в их Божественное происхождение. В качестве второй черты выделена диалогичность русского искусства: в русской культуре восприятие произведения считалось такой же значимой духовноинтеллектуальной работой, творческим действом, как и его создание. В статье показывается, что эти черты были живой практикой, отрефлексированной в текстах и реализованной уже в древнерусском искусстве. Носителями главных черт русского искусства являлись иконы. После столетнего западного диктата именно обращение сначала к искусству византийской иконописи, а затем и к русской, стало решающим для русского изобразительного искусства в XIX и XX веках. Открытие икон в 1910‑е годы привнесло в русское искусство те национальные импульсы, которые позволили ему, несмотря на тяжелый идеологический прессинг, не утратить своих корней и пережить новый расцвет в 1960–1970‑е годы.
Этицизм красоты, воспитание искусством, эстетическая культура, социально-психологические исследования, психология искусства, советское искусство шестидесятых
Короткий адрес: https://sciup.org/140313016
IDR: 140313016 | УДК: 7.01+75.046 | DOI: 10.47132/2541-9587_2025_4_206
Текст научной статьи О единстве этического и эстетического в русском искусстве (историко- культурологический аспект)
В христианстве искусство имеет Божественное происхождение, поскольку первым Художником является Сам Бог. Слова Св. Писания о Творении как художественном акте были подробно осмыслены в Св. Предании Церкви: «по учению св. Отцов — апологетов, а также всей последующей святоотеческой традиции, прежде всего св. Василия Великого, Иоанна Златоустого, Григория Богослова, бл. Августина и других Отцов, Бог творит мир как Художник. Поэтому о мироздании можно сказать, что стройность симметрических построений, ритмических пересечений и касаний, выявляющих смысл творения, есть условие, необходимо сопровождающее первоначальное творение и порождающее в нем истинную гармонию»1. Человек, как Образ и Подобие Бога, получил это творческое божественное начало. Поэтому в христианстве к деятельности художников предъявлялись очень высокие требования, а античная идея калокагатии — соединенности красоты, добра и истины — органично вошла в христианское искусство. Но в отличие от древних греков, у которых речь шла только об этике, в христианстве Красота обрела самостоятельность и этическую силу, как одно из Имен Божиих. Неразрывное единство и одновременно равность красоты и нравственности стали естественным онтологическим свойством искусства всей христианской ойкумены. Однако к X в. в западной части христианского мира представление об искусстве меняется. От мистической практики познания Бога через Откровение католический мир переходит к философии и рациональному познанию. Мироздание разделилось, и человек был поставлен в позицию внешнего исследователя Божественного устроения мира. Вместо живого взаимодействия с Богом появилась схоластика, и это полностью изменило искусство.
В то время как в Православной Церкви искусство сохраняло свои мистические основания и мыслилось как синергия Бога и человека, в Католической Церкви оно стало превращаться в систему знаков и символов, а красота и нравственность обрели внешний по отношению к художественному образу характер. Если православный художник по-прежнему стремился написать образ, «освящаемый именем Бога и друзей Божиих, и по этой причине осеняемый благодатию божественнаго Духа»2, то в католическом искусстве художник начал работать над «Библией для безграмотных», заменив эстетический опыт познавательным. В католическом искусстве красота стала определяться человеческим вкусом и отношением, а носителем нравственности оказался замысел автора: начался необратимый процесс разделения красоты и нравственности в искусстве.
После падения Византии искусство восточнохристианского мира стало быстро вестернизироваться и утрачивать этико-эстетическую духовную целостность. Одна Россия дольше всех сохраняла чистоту целостного православного восприятия космоса, и XV в. стал периодом расцвета ее искусства. В этом видится не отсталость, а мировоззренческая развитость и устойчивость русского мира. И даже тогда, когда научный рационализм стал превалировать в высокой культуре России, на огромных российских просторах, в крестьянской среде (а это больше 80% населения) не утрачивалось древнее православное восприятие мира и сохранялось, пусть в ремесленном виде, соответствующее ему искусство.
Антиномия единства и самоценности нравственности и красоты никогда не была для русского искусства абстрактной теорией. Это была живая практика, которая в ранний период осмыслялась даже несколько прямолинейно. Например, в Киево- Печерском патерике в 35-м слове рассказывается о чудесах иконописца XI в. прп. Алипия Печерского. Автором патерика устанавливается прямая связь между красотой созданных художником произведений и его нравственным обликом, между творчеством художника и очищением от греха. Преподобный Алипий — не только великий художник, он святой чудотворец, и его творчество и чудотворная сила не разделены. Само художественное действие прп. Алипия является чудом. Преподобный исцеляет своим искусством — он закрашивает красками проказу на лице у грешника, тем самым убирая с его лица следы повреждения грехом, возвращая ему «прежний вид и благообразие», и человек раскаивается и очищается, как евангельский прокаженный. В XI в. во всем мире светского искусства почти не существовало, оно везде было посвящено Богу, и потому предания о чудесных изображениях присутствуют в самых разных культурах. Но совсем не везде мастерство и красота произведений, художество и очищение от греха, нравственный облик художника и результат его труда впрямую соотносятся между собой.
В Древней Руси нравственность любой сознательной деятельности, и, конечно, творческой, была заложена в самом языке: «Начиная с ХI века греческое слово “сюнэйдезис” (сознание) точно отражает, калькируя, славянодревнерусское слово “съвесть”3, а обретение словом “сознание” современного его значения в отечественной культуре “произошло не позже, но, кажется, и не раньше второй четверти ХIХ века”4. То есть функцию понятия “сознание” в русской культуре и жизни вплоть до XIX века выполняло слово “совесть”, которое, в свою очередь, определялось, как это зафиксировано в “Словаре” В. Даля, через понятие сознания: “Совесть — нравственное сознание, нравственное чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла… способность распознать качество поступка; чувство, побуждающее к истине и добру… прирожденная правда в различной степени развития”5»6. Поэтому эпоха расцвета древнерусского искусства, его высших достижений всегда приходится на время расцвета преподобножительства, когда культурным идеалом является святой: золотой век русского искусства длился со времен прп. Сергия
Радонежского до эпохи расцвета монастырей Северной Фиваиды; новый расцвет приходится на восстановление преподобножительства в XIX в.
Православное искусство оказывало сильнейшее духовно-нравственное воспитательное воздействие, поскольку эстетический опыт его восприятия был одновременно и религиозным опытом, и интеллектуальным, и нравственным, это был опыт любви и богопознания, и через него — мира. В упорядоченности и многообразии линий и красок, в гармонии художественных форм иконы человеку подавался не только чувственный опыт переживания прекрасного, но и интеллектуальный опыт «богословия в красках», от-рефлексированный художником в сложной системе визуальных метафор7. Искусство иконописи воспитывало вкус, развивало зрительный интеллект, являлось носителем главных ценностей. Древнерусское искусство не отражало действительность, а формировало ее, поскольку создавало духовноэстетическое пространство, атмосферу жизни, причащая человека идеалу Единого Благого и Прекрасного. Икона, помимо своих литургических функций, была высшим искусством, «искусством из искусств», эстетическим проводником нравственного христианского идеала. Созерцание красоты икон (умное видение, умозрение, зрительное погружение в образ, а не разглядывание и не скольжение взглядом по живописной поверхности, не чтение знаков и аллегорий) переживалось как экзистенциальный опыт Богооб-щения и предстояния Богу, оказывая глубинное личностное воздействие на человека, воспитывая и формируя мировоззрение. И не только создание, но и восприятие такого искусства требовало воли и усилий.
Именно об этом в начале XVI в. в своей «Духовной грамоте» писал прп. Иосиф Волоцкий. В Слове 10-м «Отвещание любозазорным и сказание в кратце о Святых отцех, бывших в монастырех, иже во Рустей земли сущих» прп. Иосиф пишет о таком созерцательном духовном делании прп. Андрея Рублева и его старца Даниила Черного: «чуднии они пресловущии иконописцы Даниил и ученик его Андрей, инии мнози такови же и толику добродетель имуще, и толико потщание о постничестве и о иноческом жительстве, яко же им Божественныя благодати сподобитися и толико в Божественную любовь предуспети, яко никогда же о земных упражнятися, но всегда ум и мысль возносити к невещесвеному и Божественному свету, чувственое же око всегда возводити ко еже от вещных вапов написаным образом Владыки Христа и пре-чистыя его Матере и всех Святых, яко и на самый праздник светлаго Воскресения на седалищих седяща, и пред собою имуща все честныя и Божественныя иконы, и на тех неклонно зрящя божественыя радости и светлости исполняху; и не точию на той день тако творяху, но и в прочая дни, егда живописатель-ству не прилежаху. Сего ради Владыка Христос тех прослави и в конечьный час смертный»8. Святой Иосиф пишет, что созерцание икон — такая же духовная работа, как и их написание. Не только само иконописание, но и процесс восприятия — это возвышающий душу духовно- мыслительный труд. Преподобные иконописцы не читали перед иконами молитв, не клали поклоны, пишет прп. Иосиф. Они просто сидели и смотрели, приобщаясь через это действие высшему Благу и Красоте, и за это «делание», по утверждению преподобного, им было даровано спасение и жизнь вечная.
Сформулированная прп. Иосифом мысль о восприятии как духовной работе была принципиально важной для русского средневекового искусства вплоть до второй половины XVI в. Созерцающему икону человеку отводилась роль не безучастного зрителя, как это сложилось в западноевропейском искусстве, а активного участника диалога, от которого требовалось такое же, как и от художника волевое творческое усилие. Однако в эпоху Ивана Грозного начинается разворот русской культуры в сторону западной, и в XVIII в. она полностью сливается с ней9.
XVIII в., по меткому наблюдению О. Мандельштама, стал прямым наследником схоластики10. В век Просвещения из определения искусства исчезло представление о его божественном начале. Мерилом красоты и нравственности философы- просветители объявили самих себя. Этика и эстетика в философии просветителей еще сохраняли свою взаимосвязь, но уже не были равны: красота имела подчиненный по отношению к морали характер, и для ее изображения в искусстве был выработан жесткий канон. «Красота, — утверждал Д. Дидро, — имеет всего лишь одну форму»11, природную, которую в искусстве необходимо воспроизводить идеализированной, в духе античности. Появилось понятие «изящных искусств».
Все, что находилось за пределами нового канона, было названо варварским, уродливым и отсталым. В первую очередь это коснулось средневекового искусства, особенно византийского. Известно, что просветители ненавидели Византию и создали черный миф о ней. Именно тогда в новой просвещенной России древнерусское искусство было объявлено «неискусством», впервые за многие века его существования.
Иконам было отказано в красоте. Их приравняли к ремеслу, воспроизводящему чужие древние шаблоны и имеющему функциональное богослужебное значение. После того как в эпоху романтизма на Западе было реабилитировано искусство Византии, в России также начались процессы переосмысления православного художественного наследия. Но это не коснулось древнерусского искусства: в нем по-прежнему видели неказистого носителя православной этики. Например, И. М. Снегирев писал, что поскольку иконы «не подчиняются правилам и условиям» высокого «чувственно изящного» искусства, они не могут не отвращать человека с просвещенным вкусом. Потому что, «хотя сущность отличия сего искусства состоит в сохранении строгости первообраза, проникнутого духовною истиною; но оно не исключает возможности соблюдать перспективу и другие художественные условия»12. Учеными не делались различия между древними шедеврами и современными артельными работами. В 1866 г. Ф. И. Буслаев писал: «Как бы высоко не ценилось художественное достоинство какой-нибудь из старинных русских икон, никогда она не удовлетворит эстетически воспитанного вкуса не только по своим ошибкам в рисунке и колорите, но и особенно по той дисгармонии, какую всегда оказывает на душу художественное произведение, в котором внешняя красота принесена в жертву религиозной идеи […]»13.
Везде, где речь шла о русском средневековом художественном наследии, в публицистике или научной литературе, утверждалась эстетическая неразвитость русского человека допетровской Руси, который не смог создать собственной культуры. Например, вице-президент Академии Художеств князь Г. Г. Гагарин в своей брошюре «Строителям русских церквей» за 1882 г. рекомендовал архитекторам обращаться только к византийской традиции: именно в ней он видел те национальные истоки, которые должны напитать современное искусство. Древнерусское наследие как возможный образец для подражания князь даже не рассматривал. Напротив, он советовал всячески его избегать. Г. Г. Гагарин с сокрушением писал, что Русь, поставленная Византией «в Х-м веке на лучший путь христианского искусства, была совращена с него, против воли, неотразимою силою невзгод, последовавших без перерыва в продолжении восьми веков». Он был уверен, что русская культура никогда не развивалась самостоятельно, и что «из беспорядочного смешения восточных и западных влияний мог выйти только побочный стиль, не имеющий правил, могущих создать школу»14. Такое отношение к собственному прошлому тяжело сказалось на оценке русской культуры в целом.
В это время в западной философии в трудах Фридриха Шиллера появляется понятие «эстетическая культура», которое становится основным показателем духовно- нравственного и в целом культурного развития общества15. И русские, не имеющие в прошлом «изящных искусств», эстетической культуры в западном ее понимании, стали представляться лишенными умственного и нравственного развития дикарями. Начинается дискуссия между западниками и славянофилами, о которой В. В. Розанов писал: «А славянофильство есть просто любовь русского к России»16.
Ф. Шиллер поставил эстетику над этикой, освободив ее от гнета последней. Тем самым он еще дальше, чем просветители, увел искусство от Христа. Оторванная от этики, пусть уже очеловеченной просветителями, красота перестала быть принадлежностью исключительно «доброго» мира. И лучшие русские художники, писатели, литераторы глубоко это почувствовали: «В середине
XIX века, например, Н. В. Гоголь, К. П. Брюллов, П. А. Федотов почувствовали разлад действительности, этического и эстетического. Под видом красоты, в ее образах и символах представала падшая вселенная, мир, надорванный и сло-манный»17. Начался активный процесс поиска национальных основ искусстве. Но вместо поиска форм, органичного для западного искусства, это был глубинный процесс возвращения в русское искусство антиномичного понимания единства и самоценности красоты и нравственности.
В русском искусстве, особенно в литературе и музыке, через формы западного канона с огромной силой забил поток живого национального творчества, в котором красота и нравственность снова соединились и вернули свои анаго-гические свой ства. На тему нравственности красоты и красоты нравственного рассуждали многие писатели, музыканты, философы того времени, — вспомним хотя бы знаменитый афоризм М. И. Глинки: «Чтобы красоту создать, надо самому быть чистым душой». Возвращение византийского эстетического канона оказало сильнейшее воздействие на русское изобразительное искусство: были созданы мозаичные шедевры Исаакиевского собора и Спаса-на- Крови, сложился художественный стиль иконописной мастерской Пешехоновых и др. Но не только в церковном искусстве происходят изменения. Влияние византийских мозаик испытали такие столпы русской живописи как Александр Иванов, Михаил Врубель, Виктор Васнецов.
Вместе с этико- эстетической антиномией в искусство в это время возвращается и русское понимание духовной значимости восприятия искусства, влияющее на нравственный рост человека и развитие его души, идея обращенности искусства к душе человеку как проявление любви. Особенно отчетливо эта мысль прозвучала в произведениях Ф. М. Достоевского. Писатель много размышлял над категорией красоты и сделал вывод, что красота произведения искусства изначально содержит внутри себя особого рода нравственный компонент. Однако узреть этот этический потенциал дано не всем, человек неподготовленный, неразвитый эстетически и нравственно вряд ли в состоянии распознать этический элемент прекрасного18.
Среди критиков и теоретиков первым в национальном ключе начал говорить об искусстве русский критик, литератор и поэт Аполлон Григорьев. Ф. М. Достоевский писал о нем: «Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек как натура (не говорю — как идеал; это разумеется)»19. А. Григорьев теоретически обосновал идею единства, взаимосвязанности и равноценности красоты и нравственности и вернул тему этикоэстетической целостности искусства в мистический дискурс, раскрыв все главные ожидания, которые русская культура предъявляла искусству. Правда, в XIX в. А. Григорьев писал о литературе, а не об изобразительном искусстве, но это не помешало ему стать одним из наиболее ярких теоретиков русской критической мысли в целом.
А. Григорьев, как и Ф. Шиллер, отводил искусству очень важное место в культуре. Однако, в отличие от западного мыслителя, он видел в искусстве не игру, раскрепощающую личность и развивающую сферу чувственного, — русский критик полагал, что ничто не имеет такого глубокого нравственно- воспитательного воздействия на человека как красота искусства, поскольку был убежден в духовной природе красоты и ее связи с Богом. В своей статье «Искусство и нравственность»20 А. Григорьев утверждал, что этическое воздействие искусства рождается не в морализаторстве, не в сюжете или искусственной фигуре идеального героя, а в органическом воздействии целостного видения красоты жизненного космоса на ум и чувства человека, в основе которого лежит «вера в искусство, как в высшее из земных откровений бесконечного <…> Я приписывал и приписываю искусству предугадывающие, предусматривающие, предопределяющие жизнь силы, и притом не инстинктивно только чуткие, а разумно чуткие, — органическую связь с жизнию и первенство между органами ее выражения»21.
Социальная миссия критика для А. Григорьева была проповеднической миссией любви — учить людей видеть искусство, понимать его красоту, и тем самым исправлять нравы. «Критики отрешенно- художественной, чисто технической, никогда и не было», — писал он. Такая критика бесполезна, во-первых, для «художников, которые — если только они художники истинные — сами родятся с чувством красоты и меры, а если не истинные, то никакими толками не втолкуете им чувства красоты и меры». Во-вторых, эти рассуждения бесполезны и для людей, которым они нисколько не уяснят смысла художественных произведений и которых нисколько не приблизят к пониманию, к проникновению в содержание. И называет «постыдной точкой» рассуждения об историческом развитии идеала, т. е. утверждение, «откровеннее говоря, несуществование идеала»22. Поскольку для самого А. Григорьева существовал только один абсолютный идеал: Бог.
В своей работе «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства» А. Григорьев осудил западную критику за то, что она предпочитает писать не о самом произведении, а выстраивает анализ «по поводу произведений», уходя от воспитательных задач в область чистой науки23. Первым в истории он заявил о необходимости социальнопсихологических исследований, обосновывая свою идею тем, что разным социальным группам людей нужно объяснять искусство по-разному, в зависимости от уровня развития человека. Только так, доказывал критик, можно научить воспринимать, чувствовать, понимать природу прекрасного, внутреннюю жизнь искусства и ее нравственные основания. Аполлон Григорьев остался не понятым при жизни маргинальным чудаком, идеи которого были оценены и востребованы только в начале XX в., когда в культуру России вернулись русские иконы.
«Открытие» икон, «русские Помпеи», как назвали это событие мировые газеты, приходится на 1910-е гг. — период расцвета символизма и становления авангарда. Это «открытие» также происходит под влиянием западных деятелей культуры: теперь это французские фовисты, в первую очередь Анри Матисс. Вместе с другими европейскими знаменитостями Матисс познакомился с освобожденными от потемневшей олифы и поздних записей древнерусскими иконами в 1911 г. в частном собрании С. Остроухова. Художник был поражен красотой древнерусского искусства — сложной гармонией линий и цвета, ритмом, высоким художественным профессионализмом и умением иконописцев раскрыть абстрактную идею минимальными средствами выразительных пластических форм. Только после восторгов именитых гостей среди российских деятелей культуры вспыхнул интерес к отечественным древностям. В связи с этим А. В. Бакушинский, известный искусствовед и художник того времени, грустно-иронически написал: «Матисс нам был нужен, чтобы окончательно поверить в икону; Милле и Диль — чтобы обосновать нашу новую точку зрения на нее»24.
В российском образованном обществе очень скоро появился интерес не только к древней иконописи, но и к народному искусству, артельной иконе, — тому самому крестьянскому ремеслу, которое столетиями сохраняло русскую национальную художественную идею. А. В. Бакушинский стал одним из самых известных исследователей народных промыслов и вошел в историю как спаситель иконописных центров в Палехе, Холуе и Мстере, организовав там в 1920-е гг. промысел по росписи шкатулок из папье-маше. Однако А. В. Бакушинский знаменит не только этим. Ему принадлежит методика «эстетических экскурсий» в художественных музеях, в которой он практически реализовывал центральную идею русского искусства — его диалогичность, требующую от зрителя усилия и духовной работы, сотворчества художнику в процессе восприятия прекрасного.
А. В. Бакушинский, как и прп. Иосиф Волоцкий, как А. Григорьев и Ф. М. Достоевский, писал о единстве нравственности и красоты, о духовности в искусстве, о необходимости волевого движения души к пониманию прекрасного. И если в каких-то произведениях красота лишалась своих божественных свойств, такие работы он отказывался признавать искусством. Ученый писал: «Опыты “движения вперед” в плоскости абстрагирования искусства, разложения и нового синтеза видимости, идущие от Пикассо, заканчиваются печально или опустошением души и отчаянием перед обломками разбитой и поруганной красоты, или холодом рассудочности и заменой творческого порыва скучной алгеброй условных обозначений (в футуризме, лучизме, супрематизме).
Сторонники другого направления обращают взоры назад, через стилизацию художественного мировоззрения и манеры недалекого и далекого прошлого к примитиву, к глубинам народного искусства, наивного творчества первобытного человека. Человек современный с тоской понял великую истину: “Если не будете как дети, не вой дете в царство Божие”»25.
Вместе с древнерусской иконой в ХХ в. в русскую культуру вернулись представления о высшем предназначении искусства. Божьим Промыслом иконы были открыты в своей первозданной красоте накануне разрушения России и гонений на Церковь, и многие десятилетия их красота была единственной проповедью о Боге, нравственным мерилом подлинного творчества.
Большевики прекрасно понимали силу воздействия икон, и потому в 1930-е гг. начали убирать их из визуального поля советского человека. Икон не было в музеях, их запрещали иметь в домах, воспроизводить в любых произведениях искусства. Даже в фильме «Александр Невский» святой великий князь идет воевать с немецкими рыцарями не с иконами на стягах, а с геральдическими животными. Изучение и собирание икон в музеи, спасение их от варварского уничтожения в это время становится в буквальном смысле подвигом. Многие выдающиеся ученые, специалисты по древнерусскому искусству, такие как Ю. А. Олсуфьев, А. И. Анисимов, Г. О. Чириков и др. были репрессированы и погибли26.
Стремительный процесс разрушения христианства в XX в. привел к полному изменению искусства. Отделив красоту от нравственности, форму от содержания, искусство на Западе долго качалось между эстетизмом и морализаторством. В итоге оно отказалось и от того, и от другого. В конце ХIХ в. родилась новая наука — семиотика, с помощью которой стали объяснять и искусство. Мир художественных образов начал исследоваться как интеллектуальный текст, и семиотические инструменты познания — утверждаться как универсальные и абсолютные. В середине ХХ в. семиотический треугольник (знак, смысл и значение) уже на теоретическом уровне полностью исключил из искусствоведческого дискурса тему красоты и нравственности. В конце концов (и до сего дня) в западном искусстве эстетический опыт стал пониматься как одна из форм интеллектуального познания и чувственного опыта.
В СССР вопросы этики и эстетики в искусстве разрешались в таком же сциентистском ключе, но в свете марксистко- ленинской философии. Эта тема стала предметом активного обсуждения в 1960–1970-е гг. В 1960 г. в Ленинградском университете была создана кафедра этики и эстетики во главе с М. С. Каганом. В 1971 г. вышла небольшая коллективная монография кафедры «Этическое и эстетическое» под ред. М. С. Кагана и В. Г. Иванова27, которая положила начало дискуссии, продлившейся более двадцати лет. «На базе кафедры в 1971 году был создан Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР Проблемный Совет по этике и эстетике, многие заседания которого были также обращены к изучению фундаментальных взаимодействий этики и эстетики, в том числе осмыслению природы этического и эстетического. В Петровском зале Ленинградского университета в 1972 году на первом же заседании Проблемного Совета учеными России была проведена дискуссия о содержании и специфике эстетического и нравственного воспитания»28. В рамках дискуссии выступали не только философы, но также историки, искусствоведы, литературоведы. Последнее заседание прошло в 1983 г., по результатам него был выпущен сборник с говорящим заголовком «Единство эстетического, нравственного, художественного в системе идеологических отношений» (Архангельск, 1983).
В итоге дискуссии определились два полюса: с одной стороны были «природники», настаивающие «на естественно- природной основе этического и эстетического» (просветители), с другой — «общественники», определяющие «этическое и эстетическое как порождение общества»29 (марксисты). Обе стороны в своих формулировках были далеки от традиционно- русского видения этического и эстетического в искусстве, а также от реальных процессов, происходивших в то время в культуре.
Университетская дискуссия шла параллельно насыщенной событиями художественной жизни эпохи, важнейшим из которых было второе «открытие» икон. 6 сентября 1960 г. Д. И. Арсенишвили при поддержке И. Эренбурга сумел организовать и провести празднование 600-летнего юбилея со дня рождения Андрея Рублева. Празднование сильно повлияло на общественное мнение и вызвало широкий интерес к древнерусскому искусству. Иконы стали легально признанным культурным наследием, представляющим историческую и художественную ценность. Был создан, а затем открыт для посещения музей икон им. Андрея Рублева. В 1960–1970-е гг. одна за другой в музеях Москвы и Ленинграда проходят масштабные выставки икон, в городах с древней историей открываются экспозиции, выходят прекрасно иллюстрированные альбомы икон, составленные крупнейшими искусствоведами.
Однако советская методика показа древнерусского искусства предполагала демонстрацию их в отрыве не только от литургической и духовной, но даже от сюжетной составляющей. В альбомных статьях, на экскурсиях не объясняли кто изображен на иконах, часто иконы воспроизводились фрагментарно. Исследователи в основном занимались изучением иконописных школ, историей иконографии и исторических фактов, связанных с бытованием икон, — эти темы не подвергались идеологическому контролю. Вопросы их литургической значимости были полностью под запретом, а темы, утверждающие художественную ценность икон и смысловую значимость в них красоты, пробивались с трудом. Но именно через изучение иконописи как искусства был актуализирован традиционный русский взгляд на духовную природу искусства и взаимодействие в нем красоты и нравственности.
Среди наиболее ярких исследователей икон, отстаивающих их высокую художественную ценность, можно назвать Г. В. Жидкова, М. В. Алпатова, Н. А. Демину, О. И. Подобедову, Е. Я. Осташенко и др. Но даже такие известные в советское время искусствоведы были ограничены в возможностях. «Идеалом историков искусства становится составление реестров памятников с их краткими описаниями и пояснительными замечаниями к ним. <…> Вместе с падением интереса к искусствоведческому анализу многие авторы обнаруживают тяготение к чисто иконографическим изысканиям в духе XIX века»30, — писал М. В. Алпатов. Подмеченное М. В. Алпатовым явление было связано с тем, что в конце 1960-х гг. в искусствоведении начинают распространяться западные сциентистские подходы к изучению искусства, нацеленные на создание объективной гуманитарной науки с использованием естественнонаучных подходов. Искусствоведение сосредоточилось на изучении личностей художников, их идей, социологии искусства. Образно-стилистический анализ самих произведений искусства, основанный на личном эстетическом опыте, интуиции, исследовательской рефлексии стал использоваться все меньше и заменяться формально-пластическим. Наибольшую ценность в произведении стала представлять его концептуальная новизна и формальная оригинальность решения.
Только что вернувшиеся в историю большого искусства иконы снова оказались за его рамками. Теперь это было связано с их безымянностью и иконографическими принципами, лежащими в основе художественных решений. Иконы снова стали изучать как ремесленные изделия, «предискус-ство», в котором искали зачатки индивидуальной мысли. Но новых зрителей, молодых людей, открывших для себя древнерусское искусство, такой подход не мог удовлетворить. Иконы притягивали своей тайной, мистической силой, необычной красотой. «.Искусство, живопись, музыка, церковная архитектура, которая мне очень нравилась, говорили другое, — вспоминает себя в этот период В. А. Капитанчук, впоследствии ставший одним из руководителей христианского диссидентского движения в СССР. — И это все обман и следствие обмана? Чушь какая-то...»31
В 1970-е гг. стали создаваться творческие группы по изучению икон. На факультетах общественных наук, на экспозициях музеев, частных квартирах велись лекции по древнерусскому искусству, в первую очередь иконописи, которые читали не только искусствоведы, но и тайные монахи. Вместе с этими искусствоведческими клубами в интеллигентной молодежной среде начали организовываться религиозные кружки по тайному изучению Евангелия, и Церковь пополнилась новыми членами — молодыми людьми, комсомольцами, выросшими в атеистических семьях. 1960–1970-е гг. оказались пиком популярности иконописного искусства и, одновременно, расцветом советского искусства, когда и в кинематографе, и в литературе, и в живописи, и в скульптуре были созданы величайшие произведения искусства, одухотворенные поиском высшей правды, красоты и добра.
Божественное единство и самоценность красоты и нравственности, обращенность к духовно-созидающему зрителю — это те национальные идеалы, которые через века были пронесены русской художественной мыслью и от-рефлексированы в русской философии искусства незадолго до крушения Российской империи. И каждый раз, когда иконы объявлялись «неискус-ством», — закрывались, записывались, уничтожались, русская культура погружалась в глубочайший антропологический и художественный кризис. Промыслом Божиим в самый страшный период русской истории, когда на кону стоял вопрос о дальнейшем существовании Русской Православной Церкви, иконы были открыты миру из-под поздних записей, копоти и почерневшей олифы, — и можно полагать, что только благодаря этому промыс-лительному событию русское искусство, несмотря на тяжелое идеологическое давление, не утратило своих корней и смогло пережить новый расцвет в 1960–1970-е гг.