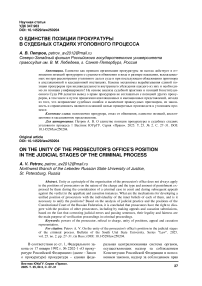О единстве позиции прокуратуры в судебных стадиях уголовного процесса
Автор: Петров А.В.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 2 т.25, 2025 года.
Бесплатный доступ
Единство как принцип организации прокуратуры не всегда действует в отношении позиций прокуроров о сущности обвинения и виде и размере наказания, высказываемых им при рассмотрении уголовного дела в суде и при последующем обжаловании приговора в апелляционной и кассационной инстанциях. Каковы механизмы вырабатывания единой позиции прокуроров при индивидуальности внутреннего убеждения каждого из них и необходимо ли позиции унифицировать? На основе анализа судебной практики и позиций Конституционного Суда РФ делается вывод о праве прокуроров не соглашаться с позицией других прокуроров, в том числе и путем принесения апелляционных и кассационных представлений, исходя из того, что исправление судебных ошибок и вынесение правосудных приговоров, их законность и справедливость являются основной целью проверочных производств в уголовном процессе.
Полномочия прокурора, отказ от обвинения, единство позиций, апелляционное и кассационное представление
Короткий адрес: https://sciup.org/147251175
IDR: 147251175 | УДК: 347.963 | DOI: 10.14529/law250204
Текст научной статьи О единстве позиции прокуратуры в судебных стадиях уголовного процесса
В соответствии со ст. 1, Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) прокуратура – единая феде- ральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции. Единство прокуратуры является одним из принципов ее организации. Вместе с тем практика показывает, что при осуществлении деятельности прокуроров различных уровней в процессе движения уголовного дела не всегда присутствует единая позиция прокуратуры.
Предполагается, что прокурор, поддерживая государственное обвинение в суде первой инстанции, осуществляет уголовное преследование, это вытекает из ст. 35 Закона о прокуратуре и ст. 246 УПК РФ.
Однако возможность отказаться от обвинения, предусмотренная ст. 246 УПК РФ и конкретизированная в п. 1.3 приказа Генпрокурора России от 30 июня 2021 г. № 376 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства», в соответствии с которым отказ от уголовного преследования невиновных и их реабилитация в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и поддержание обоснованного обвинения, свидетельствует о том, что прокурор не только осуществляет уголовное преследование, но и одновременно осуществляет контроль (надзор) за деятельностью суда, в том числе и для того, чтобы при выявлении нарушений принести представление на принятое судом решение. Возможность отказа прокурора от обвинения полностью или в части, предусмотренная законодателем, уже сама по себе свидетельствует о том, что мнения прокуроров на различных стадиях уголовного преследования могут меняться, что объясняется, в том числе и повышением качества процессуального познания с продвижением расследования, судебного следствия.
Об этом свидетельствует закрепление в указанном приказе обязанности государственных обвинителей активно участвовать в исследовании доказательств, способствовать принятию судом законного, обоснованного и справедливого решения, соблюдению прав, свобод и законных интересов участников процесса, требований закона о разумном сроке уголовного судопроизводства.
Другими словами, государственный обвинитель, поддерживая обвинение в суде первой инстанции и выявив нарушения, допущенные судом, должен на это отреагировать и заявить ходатайство о его устранении, если эти нарушения касаются уголовно-процессуального закона, и высказать свое мнение в ходе судебных прений по всем вопросам, указанным в ст. 299 УПК РФ.
Более того, что очень важно и для деятельности суда, вышеприведенный приказ требует от государственных обвинителей представления письменных формулировок по всем вопросам, указанным в ст. 299 УПК РФ.
На практике нередко возникает вопрос о возможности государственного обвинителя не согласиться с позицией органов расследования, изложенной в обвинительном заключении (акте, постановлении), а, значит, и с позицией прокурора, утвердившего итоговый документ предварительного расследования. Не противоречит ли такое несогласие с принципом централизации и единоначалия деятельности прокуратуры?
С одной стороны, одним из принципов деятельности прокуратуры в соответствии со ст. 1 Закона о прокуратуре является единство и централизация, а с другой - внутреннее убеждение прокурора, не согласного, например, с квалификацией деяния, не позволяет ему поддерживать обвинение, с которым он не согласен, исходя из принципа единства и централизации прокуратуры только потому, что прокурор утвердил обвинительное заключение.
В п. 1.6 приказа Генпрокурора России от 30 июня 2021 г. предписано: считать недопустимым любое давление на государственных обвинителей, принуждение их к отстаиванию выводов органов предварительного расследования, не подтвержденных исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами. Также этот приказ предусматривает, что в случае принципиального несогласия с позицией государственного обвинителя, исходя из законности и обоснованности предъявленного обвинения, необходимо своевременно решать вопрос о замене обвинителя либо лично поддерживать обвинение.
В этом же приказе в п. 3.4 указывается: при существенном расхождении позиции государственного обвинителя с позицией, выраженной в обвинительном заключении (акте, постановлении) или постановлении, докладывать об этом прокурору, поручившему поддерживать государственное обвинение.
Наличие данных положений в приказе Генпрокурора России от 30 июня 2021 г. свидетельствует о том, что практика расхождения позиций прокуроров различных уровней - не такое уж и редкое явление, и существует необходимость урегулирования таких ситуаций, чтобы перед судом позиция прокуратуры была представлена единой.
Действительно, изучение практики показывает, что зачастую несовпадение позиций государственных обвинителей и прокуроров, утвердивших обвинительное заключение, приводит к тому, что последние после постановления приговора приносят представление на приговоры с доводами, которые противоречат решению об утверждении обвинительного заключения и позиции государственного обвинителя, высказанной в суде первой инстанции. Например, прокурор утвердил обвинительное заключение по квалификации, как получение взятки, прокурор поддерживает такое обвинение, суд постановляет соответствующий приговор. Прокурор, утвердивший обвинительное заключение, верно усмотрев, что в данном случае имеет место покушение на взятку, поскольку взяткополучатель отказался от ее принятия, приносит апелляционное представление о переквалификации деяния, которое удовлетворяется судом апелляционной инстанции.
В судебной практике возникают ситуации, когда по вопросам избрания и продления сроков меры пресечения, требующим санкционирования суда, мнения органов, осуществляющих уголовное преследование, и прокурора также отличаются. Были случаи, когда прокурор возражал против ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей, полагая, что достаточной мерой пресечения для надлежащего поведения обвиняемого может послужить домашний арест. Можно ли считать, что в данной ситуации прокурор выполняет функцию уголовного преследования или, выступая в суде по материалам, которые касаются судебного контроля, исполнения приговора, прокурор осуществляет надзор за деятельностью органов предварительного расследования и прокурорского надзора?
Сами по себе различные позиции должностных лиц прокуратуры и предварительного расследования по уголовным делам и материалам – явление вполне объяснимое. Однако ситуации, когда прокурор выходит с определенной позицией обвинения в суд, а потом в суде первой инстанции ее поддерживает, затем, приносит апелляционное представление с иной позицией, вызывают закономерные во- просы. Также представляется весьма проблемной ситуация, когда прокурор не приносит апелляционное представление, или приносит представление, в котором отсутствуют доводы, направленные на ухудшение положения осужденного, впоследствии приносит кассационное представление на апелляционное решение с доводами, ухудшающими положение осужденного, которое удовлетворяется судом кассационной инстанции, отменятся решение апелляционной инстанции и уголовное дело направляется на новое рассмотрение в апелляцию уже с новыми доводами об ухудшении положения осужденного. Очевидно, что вся работа суда апелляционной инстанции оказывается «напрасной».
В связи с такими ситуациями высказываются предложения о введения запрета прокурору приносить кассационные представления с доводами, направленными на ухудшение положения осужденного, если он таких доводов не заявлял в суде апелляционной инстанции. Однако такая позиция представляется противоречащей принципам законности и справедливости. Нельзя ставить законность и справедливость судебного решения по уголовному делу в зависимость от «человеческого фактора», в нашем случае от того, что прокуроры не усмотрели ошибок в приговоре, а сама апелляция в силу ст. 389.24 УПК РФ не может исправить такие нарушения без доводов стороны обвинения.
Данный вопрос неоднократно был предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, который обозначил свою правовую позицию следующим образом: Конституция Российской Федерации, провозглашая идею справедливости как основополагающую и гарантируя каждому судебную защиту его прав и свобод на основе равенства перед законом и судом (преамбула; ст. 18; ст. 19, ч. 1; ст. 46, ч. 1), предполагает исправление судебных ошибок, что вытекает из предназначения правосудия и необходимости вынесения законных и обоснованных судебных решений (определения Конституционного Суда РФ от 14 января 2016 г. № 15-О, от 26 февраля 2021 г. № 323-О, от 21 ноября 2022 г. № 2968-О и др.). Судебное решение не может рассматриваться как справедливый акт правосудия и должно быть исправлено независимо от того, что послужило причиной его неправосудности – неправомерные действия судьи, судебная ошибка или иные обстоятельства, объек- тивно влияющие на его законность, обоснованность и справедливость, – если существенно значимые обстоятельства события, являющегося предметом исследования по уголовному делу, отражены в нем неверно либо им дана неправильная уголовно-правовая оценка (постановления Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1996 г. № 4-П, от 16 мая 2007 г. № 6-П, от 19 июня 2023 г. № 33-П и др.; определения от 9 апреля 2002 г. № 28-О, от 4 октября 2011 г. № 1459-О-О, от 29 сентября 2020 г. № 2014-О и др.) (определение Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2024 г. № 3006-О). Таким образом, Конституционный Суд РФ оценил законность и справедливость как принципы, имеющие приоритет над невозможностью ухудшения положения осужденного при отсутствии доводов представления на ухудшение в суде апелляционной инстанции.
Кроме того, Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, что исправление судебной ошибки и вынесение справедливого решения по уголовному делу не может расцениваться в качестве нарушения прав. Напротив, отсутствие возможности пересмотреть ошибочный судебный акт – в том числе вынесенный судом апелляционной инстанции – противоречило бы универсальным требованиям эффективного восстановления в правах посредством правосудия, отвечающего критериям справедливости, умаляло бы и ограничивало право на судебную защиту (постановления Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1996 г. № 4-П, от 3 февраля 1998 г. № 5-П, от 5 февраля 2007 г. № 2-П; определения Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2017 г. № 776-О, от 23 ноября 2017 г. № 2744-О, от 26 ноября 2018 г. № 2863-О, от 29 сентября 2022 г. № 2205-О и др.).
В суде первой инстанции у государственного обвинителя, когда обвинение не подтверждается исследованными доказательствами, есть возможность, как изменить обвинение, так и отказаться от него, согласовав свою позицию с вышестоящим прокурором. В качестве крайней меры против такой ситуации можно предложить предоставление права только вышестоящему прокурору обжаловать приговор, не противоречащий позиции государственного обвинителя, высказанной в судебных прениях в суде первой инстанции.
Различия позиции прокуроров, действующих на разных стадиях уголовного про- цесса, могут касаться не только фактических обстоятельств, квалификации деяния, но и вида и размера наказания.
В качестве примера приведем уголовное дело в отношении К., который обвинялся в пяти преступлениях, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, заключил досудебное соглашение, в содержании которого указывалось, что прокуратура берет на себя обязательства ходатайствовать перед судом о применении к нему ст. 64 и 73 УК РФ. При этом в суде первой инстанции государственный обвинитель просил назначить наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет реально. Суд первой инстанции назначил наказание с применением ст. 73 УК РФ, суд апелляционной инстанции не согласился с принесенным апелляционным представлением об исключении применения ст. 73 УК РФ. Суд кассационной инстанции отменил апелляционное определение по кассационному представлению прокурора, посчитав, что наказание не соответствует характеру и степени общественной опасности содеянного. Суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении апелляционного представления во второй раз, указал, что заключая и поддерживая досудебное соглашение о сотрудничестве, прокуратура взяла на себя обязательства просить суд назначить К. наказание с применением ст. 73 и 64 УК РФ и не выполнила свои обязательства. Наряду с постановлением об оставлении приговора без изменения, отказом в удовлетворении апелляционного представления, судебная коллегия вынесла частное определение в адрес прокурора, указав на недопустимость непоследовательной позиции прокуратуры. Кассационная инстанция отменила частное определение, не обнаружив непоследовательности в позиции прокуратуры и указав на то, что при этом прокуратура не нарушила каких-то конкретных требований закона, а позиции прокурора в судебных стадиях была последовательной (кассационное постановление Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 8 августа 2024 г. № 77-1717/2024).
Свидетельством непоследовательности позиции прокуратуры, как весьма распространенной практики, является уголовное дело в отношении Б., который обвинялся по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. Прокурор в ходе судебных прений просил суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок два года с применением ст. 73 УК РФ условно со штрафом в размере 75 000 рублей. Суд назначил именно такое наказание. Однако прокурором было принесено апелляционное представление о мягкости наказания и об исключении из приговора указания на применение ст. 73 УК РФ. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, доводы апелляционного представления – без удовлетворения, сославшись в числе прочих оснований и на непоследовательность позиции государственного обвинителя и прокурора (архив Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга, дело № 1-263/2024).
Апелляционное представление о виде и размере наказания за несправедливостью в связи с его чрезмерной мягкостью или суровостью должно опираться на правила назначения наказания, предусмотренные не только общими нормами ст. 6, 43, 60 УК РФ, но в и качестве доводов должны быть указаны нарушения правил назначения наказания, предусмотренные ст. 61, 62, 66, 63 УК РФ, нарушения должны быть связаны с тем, что не учтены или излишне учтены смягчающие или отягчающие наказание обстоятельства, сведения о личности, нарушены правила применения «индивидуальных санкций».
Апелляционные представления, которые не содержат конкретных доводов о нарушении правил назначения наказания и доводов о том, какие из свойств характера и степени общественной опасности преступления, за которое лицо осуждено, не учтены при назначении наказания, должны признаваться, не содержащими доводов и возвращаться для пересоставления еще на этапе их поступления в суд первой инстанции.
Таким образом, единая позиция прокуратуры на всем протяжении движения уголовного дела по стадиям невозможна в силу того, что в процессе собирания, проверки и оценки доказательств уточняется фактическая сторона деяния, ее правовая оценка, которая может влечь за собой и изменения в суждения прокуроров о виде и размере наказания. Вместе с тем недопустимо, когда на судебных стадиях, уже после постановления приговора, прокурор меняет свою позицию, принося представление на вид и размер наказания, не приводя конкретных доводов, опираясь только на категорию несправедливости приговора. Такие представления не должны приниматься еще на этапе апелляционного обжалования и возвращаться прокурору для пересоставления.