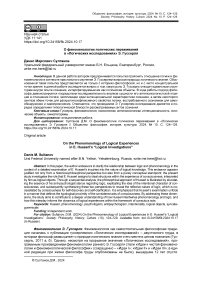О феноменологии логических переживаний в "Логических исследованиях" Э. Гуссерля
Автор: Султанов Д.М.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной работе автором предпринимается попытка прояснить отношение логики и феноменологии в контексте пристального изучения Э. Гуссерлем вопросов природы логического знания. Обоснованной такая попытка представляется не только с историко-философской, но и с чисто концептуальной точки зрения: в данной работе исследуется вопрос о том, какую роль Э. Гуссерль отводит идеальным структурам внутри опыта сознания, интерпретируемым им как логические объекты. В ходе работы подход философа демонстрируется посредством последовательного анализа сущности его антипсихологистской позиции в отношении логики, экспликации идеи интенциональной характеристики сознания, а затем некоторого синтеза обеих точек для раскрытия рефлексивного свойства логики, востребованного сознанием для самообнаружения и самопрояснения. Отмечается, что проводимое Э. Гуссерлем исследование движется в порядке определения типологической близости рассматриваемых актов сознания.
Гуссерль, феноменология, психологизм, антипсихологизм, интенциональность, логические объекты, синкатегоремы
Короткий адрес: https://sciup.org/149147030
IDR: 149147030 | УДК: 11:141 | DOI: 10.24158/fik.2024.10.17
Текст научной статьи О феноменологии логических переживаний в "Логических исследованиях" Э. Гуссерля
В них абсолютным регионом бытия и главным оперативным пространством феноменологии объявлялось сознание (Гуссерль, 2009).
Для некоторых учеников Э. Гуссерля переход к трансцендентальной проблематике выглядел как неокантианский демарш. Исследовательская литература, в которой обвинения в обращении философа в неокантианство ко времени издания «Идей I» снимаются через пристальное изучение ряда работ промежуточного периода (между 1901 и 1913 гг.), многочисленна. Также существует большое количество трудов, в которых доказывается, что феноменология позднего Э. Гуссерля – феноменология жизненного мира – не знаменует собой кардинального разрыва с ранней теоретико-познавательной ориентацией философии мыслителя. Более того, источники радикального обновления в русле «генетической феноменологии» и «горизонтной интенциональной организации опыта» – новых тенденций, связываемых с поздним творчеством философа – обнаруживаются в поздних его работах, тематически связанных с вопросами логики («Формальная и трансцендентальная логика» 1929 г. (Husserl, 1969) и «Опыт и суждение» 1930 г. (Husserl, 1975))
Сказанное выше можно интегрировать в двух тезисах: 1. Философское развитие феноменологии Э. Гуссерля при всех радикальных изменениях сохраняло целостность. 2. Мыслитель не оставлял логической проблематики на протяжении всей своей философской жизни. То есть возникновение «Идей I», работы-манифеста не было какой-то неконтролируемой флуктуацией, а другие программные проекты в феноменологии Э. Гуссерля оформлялись на почве исследований логики. В связи с этим мы считаем возможным поставить следующий вопрос: в чем заключается связь логики и феноменологии, в результате которой манифестация последней происходит в области вопросов природы логического знания? Постановка подобного вопроса притязает на проект масштабного исследования, выполнить которое в одной статье не представляется возможным. Тем не менее представим его перспективу и начало, для чего ограничим вопрос об определяющей связи логики и феноменологии ранним этапом философии Э. Гуссерля. Мы попытаемся прояснить необходимость дескриптивно-психологического исследования «логических переживаний» и установить, почему результатом его оказывается восхождение феноменологии к самой себе.
Соотношение логики и философии . Стремление к преодолению психологизма в логике является общим местом в характеристике начальных этапов становления феноменологии. Почему вопрос о соотношении логики и психологии вообще может быть поставлен? Знать нечто – значит правильно об этом мыслить. Логика имеет прямое отношение к тому, как это обеспечить. Однако если мышление есть то, что имеет место во внутренней душевной жизни субъекта, то критерий его правильности становится проблематичным.
На чем основывается представление о верности мышления? Процессы, происходящие в душевной жизни человека, могут рассматриваться как некоторая область эмпирического характера. Внутри нее могут наблюдаться «материально» обусловленные закономерности, которые, как следствие, будут зависимыми, производными от этой первичной «материальной» области. Тогда представление о правильном мышлении есть представление об общих правилах, сообразно которым мышление имеет место. Значит, законы логики представляют собой закономерности одного только региона бытия и в качестве таковых не могут быть всеобщей основой всякой научной теории.
Проблематичность такого подхода к логике также можно продемонстрировать следующим образом. В пределах опыта имеет место созерцание некоторых предметностей и сопутствующих им качеств. В опыте, однако, не дано созерцание математических и логических понятий. Вернее, если представление о некотором предмете зависит от восприятия составляющей этот предмет материальности, то представление о числе не содержит в себе ничего материального; если предполагать, что представление о числе возникает вследствие процесса счета, то продемонстрировать некое число можно на любой предметности и характер числа не будет зависеть от материального характера пересчитываемых предметностей. Можно, конечно, предположить, что представление о числе есть некоторая абстракция, представление, производное от первичного представления о предмете, но, даже если заузить сферу применения числа счетом, сама «установка на счет» есть, скорее, условие того, чтобы включить материальные предметности в операцию счета.
Схожим образом дело обстоит с логическими понятиями. «Эмансипация» логики от психологии должна показать, что в познании субъект априорно руководствуется законами логики. Если последние выражают собой просто каузальный порядок в процессе мышления, то в таком случае для корректного и некорректного рассуждения существовали бы разные казуальные последовательности, и это требовало бы объяснения того, как в корректный порядок закрадывается ошибка. А это, в свою очередь, – идентификации «корректного» и «некорректного» в пределах размышления об одном и том же. Иначе говоря, – различения истинного и ложного. То есть, даже в такого рода объяснении требовалась бы способность отличать истинное от ложного в качестве условия самого объяснения (Брентано, 1996: 15–16).
Всеобщая (в противовес ограниченности эмпирическим регионом) и необходимая (в отличие от вероятностной связи явлений эмпирического региона) связь объектов логического знания проистекает из идеального характера предмета логики. Одного этого было бы достаточно для того, чтобы, освободив логику от психологизма, развивать ее в духе математизированного исчисления, чего, между тем, в трудах Э. Гуссерля не происходит. Более того, различив сферу идеального, философ не переходит к конструированию формальных систем, но продолжает исследовать идеальное логики в пределах переживаний сознания. Почему это происходит – мы попытаемся понять далее.
Сущность дескриптивной психологии . Дескриптивная психология – такое именование дает своему методу работы Э. Гуссерль в «Логических исследованиях». Что стоит за ним? Мыслитель предлагает дать описание актам познания, чтобы оценить действительное положение «идеального» в целом познавательного опыта. Метод дескрипции позаимствован им у своего учителя, Ф. Брентано. Применение же его к ментальным актам обусловлено следующими соображениями.
Чтобы обосновать психологию как науку, необходимо указать ее собственную предметную область, отличную от иных наук. Что касается психологии, то в самым общем виде все явления в мире можно поделить на феномены физические и психические (ментальные). Последним присуще свойство «интенциональности» – в самом широком смысле термин можно расшифровать как «направленность на некоторый объект» (Прехтль, 1999: 33). Если физический объект как некая предметность понимается нами в силу его как бы самостоятельной материальности, то психический феномен существует иначе, всякое психическое есть «направленное-на», здесь имеет место обращенность к другому объекту. Интенциональность, кроме того, характеризуется еще и тем, что направленность на объект имеет особый характер для каждого вида психических актов: в восприятии нечто воспринимается, в любви – любится, в памяти – вспоминается и т. д. И данность интенционального предмета определяется прежде всего тем, каков характер «дающего предмет» акта.
Какое отношение может таким образом истолкованная интенциональность иметь к научному утверждению психологии? Ф. Брентано отвергает рефлексию как способ исследования психических феноменов, но не ведет ли интенциональная характеристика актов сознания как раз к тому, что психология будет утопать в рефлексии субъективно данных впечатлений, тем самым закрыв себе путь к научной объективности? Обратное возможно, если вернуться к тому, что было сказано чуть выше: ментальные акты обладают некоторой «расщепленностью», предмет в психическом акте обнаруживается как то, что находится как бы вне психического акта, и вместе с тем качество предмета для сознания определяется как бы внутренним качеством психического акта. Эта двусмысленность со временем станет предметом критики Э. Гуссерля, но, прежде чем обратиться к критике, попытаемся сделать некоторые шаги к прояснению сказанного о двусмысленной данности предмета сознания.
Негативно, на противопоставлении физическим объектам, психические объекты можно определить, как неделимые: фактичность бытия физических объектов подчеркивает то, что их можно, не без некоторой доли вольности, рассматривать как нагромождение акцидентальных признаков – одну вещь от другой будет отличать простая фактически (или материально) сложившаяся конфигурация акцидентальных признаков. Тогда как для ментальных актов предмет восприятия, фантазирования, воспоминания дан в соответствующих модусах актов сознания: в восприятии, например, некоторый объект принимается как «просто» налично присутствующий, поскольку модус акта «настроен» таким образом, что все внутри акта обнаруживается как «просто» налично присутствующее. Со всеми соответствующими модификациями это справедливо для фантазирования, воспоминания и других актов.
И тогда двусмысленность разделения на «внешнюю» и «внутреннюю» сторону интенциональной направленности психических актов будет обозначать необходимое единство предмета и качества акта, переживаемое сознанием в опыте. Соответственно, научное обоснование психологии становится возможным, поскольку дескрипция психических феноменов выделяет их в отдельную, связанную с опытно доступной предметностью область, которая эту предметность предоставляет как целостное в опыте сознания, имманентное единство опыта в нестрогом смысле этого слова.
Соотношение сознания и логики в феноменологии логических переживаний . «Феноменология логических переживаний» во введении ко второму тому «Логических исследований» заявляется в качестве собственной цели данной работы. Мы попытаемся раскрыть содержание того, что имеется в виду под «феноменологией логических переживаний», установив, в каком отношении мыслятся между собой сознание как имманентное единство опыта и логика как дисциплина, обеспечивающая теоретическое единство всякой науки. То есть, с одной стороны, сознание есть «познающее бытие», и познаваемость этим бытием некоторой предметности значит представимость (или, лучше сказать, «конституция») для самого сознания познаваемой предметности в целом имманентного единства опыта. Логика, с другой стороны, точно так же имеет отношение к «конституции» предмета познания в той степени, в какой предмет может относиться к целому категориальных определений, соответствующему предмету региона бытия.
С «эмпирической точки зрения» сознание есть направленность на объект, и такое определение его дает основание для возможности трактовки психологии как науки. Задача заключается в том, чтобы понять, какое место в целом течения опыта (а именно – в конституции предметности) для сознания занимают логические акты, или почему рефлексия на акты логической мысли способна вместе с тем открывать для феноменологии ее собственный предмет. Ошибка психологизма заключалась в том, что психологистский подход объявлял логику следствием, «эпифеноменом» переживаний сознания, тогда как для Э. Гуссерля обращение с предметностью опыта уже должно (априорно) подразумевать «формальный порядок» в течении опыта сознания (Брентано, 1996: 15–16). Прицел на обнаружение и феноменологическое выявление в актуальности опыта сознания этого последнего аспекта, на наш взгляд, и является тем, что подразумевается под «феноменологией логических переживаний»: какова роль логики в приведении к интуитивной (за неимением лучшего слова выразимся так) полноте того, с чем сознание имеет дело?
Первая очевидность, из которой можно исходить, – логика есть наука о мышлении. Мышление, протекающее в индивидуальном психологическом субъекте к логике отношения не имеет, вход в логику – это проблема выражения и значения, именно они, а не эмпирическая целостность индивидуального субъекта мысли, обеспечивают характерное для логики – идеальное – единство, которое может выступать в качестве мерила научности мышления. С некоторой натяжкой можно было бы сказать, что брентановская характеристика интенциональности – единства предмета и его способа данности, отнесенная самим Ф. Брентано к различным видам актов, таким, например, как восприятие, воспоминание и фантазирование, может быть интерпретирована как различные виды отношения интенции полагания значения и интенции исполнения значения.
Интенция полагания значения будет в таком случае подразумеванием какого-то значения, тогда как интенция исполнения значения есть реализация подразумеваемого значения для сознания. Акты сознания имеют составной характер. Внутри акта внимание к предмету распределено различным образом. То, чему способствует логика, мы можем при этом считать переключением внимания на реализацию в составном акте исполнения интендируемого значения. Попробуем прояснить это собственными примерами Э. Гуссерля.
Акт, выраженный высказыванием «Нож на столе», составной, поскольку «что» высказывания (нож) дается в его отношении к чему-то, что также получает свое выражение в высказывании. Для Э. Гуссерля (Гуссерль, 2011 б: 367) стол есть предмет частичного акта, а целому всего суждения соответствует целое положения дел, при котором нож лежит на столе. Иначе говоря, целое положения дел в высказывании есть то, что выражается в связи с субъектом высказывания. Данность целого положения дел сознанию в опыте есть целое как «воспринятость воспринятого» (Хайдеггер, 1998: 72).
Между тем сама целостность есть только условие опыта, тогда как для сознания она должна быть проблематизирована (Sokolowski, 1974: 33–34). Как уже говорилось, демонстрация феноменологического анализа опыта производится преимущественно на восприятии. В нем нечто становится предметом для воспринимающего сознания. В приведенном примере высказывание «Нож на столе» фиксирует наличие восприятия двух предметов, обозначаемых двумя существительными – «стол» и «нож». При этом в предложении также выражено отношение двух предметов между собой, однако для предлога «на» нет созерцания, которое содержательно соответствовало бы ему так же, как в случае с созерцанием двух предметов им соответствуют выражающие их слова. Акты, соответствующие несамостоятельным частям речи («синкатегоремы»), действительны в обыденном восприятии, но предметом феноменологического рассмотрения они могут быть только вследствие включения рефлексивной работы сознания. Выразительная характеристика языка оказывается тем, благодаря чему рефлексивная работа сознания может быть запущена. Языку – как это назовет Э. Гуссерль в своем более позднем произведении (Гуссерль, 1996: 224–225) – свойственна особая логическая способность: он выражает целостные периоды мысли в грамматических периодах, которые, однако, сами составлены из сущностно фрагментированных единств.
В таком случае познающее сознание, с одной стороны, в восприятии вещей обращено к самим предметам как к некоторым материальным единствам, а с другой – включенность материальных единств в целое положения дел рефлексивно обнаруживается в языке, который, как уже говорилось, выражает его (положение дел), сущностно будучи связью фрагментированных элементов. Благодаря грамматическому порядку языка на уровне выражения говорящий способен отличить высказывания осмысленные от бессмысленных. Основа опыта сознания в гуссерлев-ской феноменологии – это восприятие. Но восприятие – это опыт вещей так, как они есть. И тем не менее, поскольку восприятие допускает «непредметные» созерцания, выраженные в языке синкатегорматически, которые актуализируются сознанием рефлексивно, то пропозиции логики можно считать выражениями, соответствующими актам более высокого, по сравнению с простым восприятием, рода предметно ориентированной рефлексии. Логика как формальная система в таком случае обеспечивает в пределах осмысленного языка единство некоторой предметной области в его категориальных определениях.
Философия для Э. Гуссерля научна по своей форме, и потому его интересует феноменология познающего сознания. В каждой науке, выражаясь несколько вольно в духе известной максимы, столько науки, сколько в ней теории. А в каждой теории, в свою очередь, теории столько, сколько в ней логики. Может показаться, что последние два предложения изображают отношения этих терминов как некоторую пирамиду: более высокие этажи в отношении своих объемов заужены по сравнению с этажами нижними. Иначе говоря, следует ли отсюда вывод, что логика – в ее классическом виде – это единственно возможная для ранней гуссерлевской феноменологии «вершина» этой пирамиды? Процесс радикального переосмысления природы логического знания – одна из многих революций, коими был богат XX в., и Э. Гуссерль был тому современником. Однако вклад в формализованные логические исчисления со стороны феноменологов считается более чем скромным, и потому ресурсы феноменологического метода для неклассического построения логики, скорее, находили интерес у самих логиков. В этом смысле можно только следовать «не букве, но духу» гуссерлевского учения. Мыслитель положительно говорит о неевклидовой геометрии, приводя ее как пример формального теоретического построения. Работа философа в данном случае будет заключаться в том, чтобы прояснять смысл, заключенный в конструируемых системах (например, какое представление о пространстве допускает возможность построения неевклидовой геометрии (Гуссерль, 2011 а: 216)). Или, другими словами, семантика некоторой формальной системы – это ее предметная область, а «логический» аспект заключается в возможности познания, рефлексивного открытия познающим сознанием целого предметной области. Ничто в сказанном не говорит о невозможности использования ресурсов феноменологического метода в деле конструирования формальных систем.
Но об этом, представляющем несомненный интерес аспекте истории и актуальности феноменологии Э. Гуссерля мы говорить не будем, так как данная работа преследует иную цель: понять, почему логика оказывается для феноменологии пространством обнаружения себя самой. В основе своей опыт сознания опирается на восприятие, в котором сознание знает сами вещи, как они есть. Логическое суждение есть основная языковая форма, в которой выражена предметная рефлексия сознания. Тогда логика есть такая форма предметно ориентированной рефлексии, которая позволяет познающему сознанию проблематизировать данность предметов в созерцании (для уточнения терминов: восприятие – разновидность созерцания). Для большей ясности мы сошлемся на анализ актов значения и выражения в первом из группы исследований (Гуссерль, 201 б: 41–42).
Языковое выражение в виде знаков письменных либо звуковых «инициирует» для сознания актуальную связь между сказанным и подразумеваемым. Выражение «одушевляет» для нас некоторую материальную данность (письма либо сказанного слова), вводя тем самым в область смысла и значения. В виде логического суждения выражение указывает на некоторое положение вещей, которое «есть прояснённая/видимая интеллигибельность познаваемых предметностей» (Sokolowski, 1974: 33). Принципы, на которых покоится познавательная интеллигибельность в свою очередь являются уже предметом собственно феноменологического исследования. Рефлексия на всякий объект сознания призвана продемонстрировать горизонт, в котором актуальна предметность этого объекта. Для формы, которая показывает интеллигибельность как таковую, горизонтом будет целое познающего сознания. Поэтому логические исследования служат отправной точкой для авторефлексивного исследования сознания: из каких очевидностей для сознания исходит «обладание чем-то в качестве познаваемой предметности».
Проводимое Э. Гуссерлем исследование движется в порядке определения типологической близости рассматриваемых актов сознания. То есть некоторый модус данности в пределах, допускающих идентификацию сходного для некоторых различаемых актов характера, может быть усмотрен и проанализирован. Тогда у такого рода идентификации можно было бы выделить «две стороны» – формальную и содержательную. Идентифицируемое тождество на стороне формальной означало бы возможность отнесения к одному типу ментальных актов разных «теоретических» построений, а на стороне содержательной – возможность опытного обнаружения однотипности различных положений вещей в пределах одной предметной области.
Подход к сознанию в терминах «абсолютного» характера этого региона для феноменологии – такова программа феноменологического исследования ко времени выхода в свет «Идей I» – это такая форма научного исследования, в которой «субстанциальность» (восприятие предмета в опыте «как он есть») и «рефлексивность» ментальных актов (логическое суждение не есть сам предмет, но может отсылать к предмету в опыте) коррелируют, поскольку имеют общий источник. Не восприятие определяет логическое суждение (тогда это становится натурализацией логики), не логическое суждение определяет восприятие (тогда это может создавать иллюзию наличия семантического элемента в «материи» чувственности (Welton, 1982: 70)): и то, и другое исходят из одного региона, который становится доступным исследованию, будучи понятым в качестве абсолютного. Не скроем, такое чтение создает некоторые квазигегельянские содержания в мысли Э. Гуссерля, но, с другой стороны, потенциальному критику такого чтения, буде таковой найдется, мы предоставим все наше внимание.
Список литературы О феноменологии логических переживаний в "Логических исследованиях" Э. Гуссерля
- Брентано Ф. Избранные работы по философии. М., 1996. 176 с.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Кн. 1: Общее введение в чистую феноменологию. М., 2009. 489 с.
- Гуссерль Э. Логические исследования: в 2 т. М., 2011а. Т. 1: Пролегомены к чистой логике. 253 с.
- Гуссерль Э. Логические исследования: в 2 т. М., 2011б. Т. 2, ч. 1: Исследования по феноменологии и теории познания. 565 с.
- Гуссерль Э. Начало геометрии. М., 1996. 269 c.
- Прехтль П. Введение в феноменологию Э. Гуссерля. Томск, 1999. 96 с.
- Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. Томск, 1998. 384 с.
- Husserl E. Experience and Judgment. Evanston, 1975. 475 р.
- Husserl E. Formal and Transcendental Logic. Hague, 1969. 340 р.
- Sokolowski R. Husserlian Meditations. How Words Present Things. Evanston, 1974. 297 p.
- Welton D. Husserl's Genetic Phenomenology of Perception // Research in Phenomenology. 1982. Vol. 12, iss. 1. P. 59-83. https://doi.org/10.1163/156916482x00053.