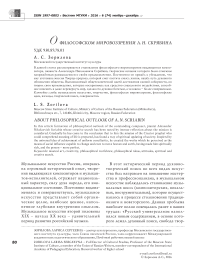О философском мировоззрении А. Н. Скрябина
Автор: Зорилова Лариса Сергеевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 6 (74), 2016 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается становление философского мировоззрения выдающегося композитора, пианиста Александра Николаевича Скрябина, творческие искания которого были отмечены напряжённым размышлением о своём предназначении. Постепенно он пришёл к убеждению, что ему уготована миссия Творца-пророка, который смог постичь смысл жизни, нашёл путь духовного обновления общества. Вдохновляемый общечеловеческой идеей достижения единой соборности, он творил свои произведения, которые воспринимал как средство социального воздействия, способное изменить и даже перевернуть мир, сделав его духовно богатым, а человека - более совершенным.
Музыкальное искусство, творчество, философское мировоззрение, философские идеи, взгляды, творческий поиск, совершенство
Короткий адрес: https://sciup.org/144161062
IDR: 144161062 | УДК: 930.85:78.01
Текст научной статьи О философском мировоззрении А. Н. Скрябина
Музыкальное искусство России, опираясь на огромный исторический опыт, творения выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей, отражает национальный характер, силу духа народа, его эмоциональное состояние. Постоянно видоизменяясь и совершенствуясь, музыкальное искусство представляет собой органическое целое, наиболее ценное, наполненное глубоким внутренним смыслом. Музыкальное искусство второй половины ХIХ – начала ХХ века – удивительный период развития российской музыки.
В этот исторический период духовнотворческий поиск во всех видах искусства был направлен на повышение мастерства и профессионализма, в музыкальном искусстве наблюдалось становление музыкальных школ (композиторских, вокальных, инструментальных), которое осуществлялось в процессе столкновения традиционного и новаторского. Данная проблема наиболее полно освещалась ранее в наших трудах: «Русский универсализм наполнялся новым содержанием, в основе которого лежал духовный поиск, свобода твор-
ЗОРИЛОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА – доктор культурологии, профессор Московского государственного института культуры, член Союза писателей России, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, Почётный работник высшей школы
80 ZORILOVA LARISA SERGEEVNA – Full Doctor of Cultural Studies, Professor of the Moscow State
Institute of Culture, a member of the Union of Russian Writers, member-correspondent of the International Academy of Pedagogical Education, Honored worker of higher school
чества, внутренняя раскованность стремление познать себя, постоянно совершенствовать исполнительские умения и навыки, расширяя свои знания в области духовной культуры, различных видов искусств. Русские композиторы и музыканты пытались найти свои собственные особые краски, обращаясь к синтезу искусств, их выразительным возможностям [5, с. 3–7]». Всё это формировало музыкальное искусство данного периода, русские традиции, которые были заложены М. И. Глинкой, М. А. Балакиревым, А. П. Бородиным, А. С. Даргомыжским, М. П. Мусоргским, П. И. Чайковским, С. В. Рахманиновым, Ф. И. Шаляпиным, С. И. Танеевым и его учеником А. Н. Скрябиным.
В период духовного расцвета России, в начале ХХ века, когда творил А. Н. Скрябин, музыкальная культура достигла высочайшего уровня совершенства, на неё сильнейшее влияние оказывали философские идеи и концепции, которые волновали передовую интеллигенцию того времени.
А. Н. Скрябин особенно остро ощущал связь музыкальной культуры с философией. Музыка представлялась ему источником жизни, философским откровением, позволяющим размышлять о музыкальном ощущении бытия, которое создаёт предпосылки для глубокого восприятия, эмоционального переосмысления действительности, собственных достижений и творческих возможностей. А. Н. Скрябин интересовался философскими концепциями русских философов, в частности – взглядами Вл. С. Соловьёва, связанными с «русской идеей», обсуждение которой осуществлялось широко в различных салонах, политических группировках.
Философские идеи направляли его творческий поиск, который воплощался в его особом цветовом видении музыки, синтезе света, цвета и звука, открывая перед композитором широкие горизонты для сози- дания и творчества. В результате его не только заинтересовала идея создания цветомузыки, он ощущал её сильнейшее эмоциональное воздействие. В процессе создания произведений, их восприятия или исполнения в сознании композитора возникали различные образы, среди них и наиболее яркий образ Огня. Но произошло это не сразу, поэтому рассмотрим особенности постепенного становления философских взглядов композитора.
Материалов о том, в какой духовной атмосфере проходило самое раннее детство А. Н. Скрябина, сохранилось очень мало. Но есть основания предполагать, что воспитывался он на «традиционных патри-ахально-православных убеждениях [11, с. 132]»: был крещён в Церкви Трёх Святителей; в кадетском корпусе изучал все дисциплины, связанные с православным религиозным образованием и воспитанием. На втором курсе Московской консерватории по классу истории церковного пения у С. В. Смоленского на экзамене он получил высшую оценку – «отлично». На листке, хранящемся в Евангелии, принадлежавшем бабушке композитора, в 1888 году он сделал запись: «… понятие о нравственности одно, то он [Христос] и говорит о едином и вечном боге, который в нём пребывает (как представление) и в котором он пребывает (жизнь, поступки). Верить в бога – значит верить в истинность учения о нравственности и следовать ему… [12, с. 120]».
Эта запись юного композитора показывает, что он не только изучал «Закон Божий», в силу того что это было обязательным требованием того времени, но и старался осмыслить, дать своё понимание церковных истин.
Это подтверждает и Л. Л. Сабанеев1, за- писавший со слов А. Н. Скрябина: «Я много думал лет в пятнадцать – о боге, о Христе, вообще о религии [13, с. 260]».
Такое отношение к православной религии сохранилось у А. Н. Скрябина и в дальнейшем. Л. Л. Сабанеев в подтверждение этого приводит выдержку из рассказа композитора: «… Когда в Демьянове, мне было тогда лет восемнадцать … (Танеев) со мной разговорился, я ему начал говорить про религию, а он мне говорит, да так злобно-иронически: “Да вы никак в бога верите?” Я ему ответил тогда категорически – “да, верю” [13, с. 261]». Но, по мнению В. Рубцовой, начиная с сознательного возраста, А. Н. Скрябин был атеистом, в бога не верил и не разделял теорий, «подобных соловьёвским». Но если бы А. Н. Скрябин был действительно атеистом, то вряд ли возможны были бы и те богоборческие мотивы, обращения к Богу, встречающиеся в высказываниях, записях композитора, согласно которым он любил окружающий мир, людей, природу и всё, что создано Богом, несмотря на все испытания, посланные ему. Это подтверждает его особое, восторженное отношение к природе, морю, которое композитор проявлял уже с детских лет. По воспоминаниям Л. А. Скрябиной – тёти А. Н. Скрябина, которая после ранней смерти матери композитора взяла на себя обязанности по его воспитанию, они часто уходили с ним в лес; он всегда имел с собой нотную бумагу и карандаш, говорил, что у него много мыслей является во время этих прогулок. Его по-настоящему восхищала величественная морская стихия, её сила и мощь, бесконечная игра красок, их неповторимость: «Вот где простор, и не говоря уже о бесконечности красок и форм … море, чудное южное море [9, с. 43]».
В письмах к Н. Секериной он пишет: «… меня тянет туда в роскошную природу, где волны тёплые, где стройные пальмы, где много роскошных цветов… Чудно действует на человека этот мир бессловесных созданий, полных прелести жизни и красоты… [8, с. 38]». «Вчера в природе было что-то неуловимое. На всём была печать какого-то чудного, неведомого настроения. Казалось, что каждая травка, каждый цветок и начинает понимать всю важность бытия [9, с. 44]».
В этих высказываниях видно не только любование природой, но и стремление выразить философское отношение к природе, человеку и к их Создателю. И если в первой цитате природа ставится в один ряд с человеком и противопоставляется Создателю, то вторая цитата отражает неуловимые, на первый взгляд, изменения в осознании «философского треугольника»: человек – природа – создатель. Собственно говоря, создатель здесь то ли уже вынесен за скобки, то ли и есть сама природа; так или иначе, человек (создание) остаётся один на один перед лицом пока ещё приветливой и прекрасной природы (миром). Что это, как не зарождение пантеистических элементов мировоззрения А. Н. Скрябина? Пока его пантеизм носит несколько наивно-созерцательный характер – композитор видит в природе прежде всего её красоту и источник вдохновения. Он иногда был настолько загипнотизирован величественной красотой природы, что готов был принести ей в жертву свой ещё только начавший формироваться идеалистический субъективизм, утверждая, что скоро: «… все художники будут черпать своё вдохновение единственно в природе и жизни и окончательно забудут самих себя и свою субъективность [8, с. 43]». Но очень скоро природа (мир, вселенная, космос) раскроют перед ним свой иной облик, облик по-своему прекрасный и величественный, но это и облик тьмы, холода и хаоса.
Эти эмоционально окрашенные ощущения и представления композитора невоз- можно передать, не цитируя его, не ссылаясь на самого А. Н. Скрябина. Именно они раскрывают его внутренний духовный мир, наполняя его истинной глубиной, раскрывая уровень его интеллекта, мировоззрения и совершенства. Но А. Н. Скрябину этого было недостаточно.
В двадцать лет – из-за болезни руки, поставившей под угрозу дальнейшую судьбу музыканта, пианиста, он ещё больше стал увлекаться философией, познакомился с трудами А. Шопенгауэра. К этому периоду его пытливый ум уже не хотел довольствоваться традиционным мировоззрением. Что-то не вписывалось в общую картину мира. «Философский треугольник» разваливался, и проблемы со здоровьем руки только ускорили это разрушение. Идеалистическая философия А. Шопенгауэра находила отклик в его мыслях, их сильно подпитывали новые знакомства А. Н Скрябина с С. Н. Трубецким и Б. Ф. Шлецером – французским писателем, литературным и музыкальным критиком.
Сейчас сложно ответить на вопрос, кто в большей степени влиял на философское формирование А. Н. Скрябина, но, видимо, каждый из них внёс свою лепту. По некоторым сведениям, ещё с 1898 года А. Н. Скрябин особенно сблизился с С. Н Трубецким, принёсшим «Скрябину много новых впечатлений … от бесед в кругу русской интеллигенции [3, с. 85]». В то же время, по свидетельству Ю. Энгеля, знакомство А. Н. Скрябина с кружком московских философов, в том числе с кн. С. Н. Трубецким и Ю. В. Вульфом, состоялось в 1900 году [16, с. 63]. Это же подтверждает и В. Рубцова, по мнению которой «большое значение для его философского формирования имела дружба с московским философом, впоследствии в 1905 году первым выборным ректором Московского университета Сергеем Николаевичем Трубецким [11, с. 335]». И именно ему В. Рубцова отдаёт первенство в вопросах влияния на А. Н. Скрябина, причём влияния, выходящего за рамки чисто философского.
С. Н. Трубецкой был не только философом, но и глубоким знатоком истории. Нет никаких сомнений в том, что систематизировать свои философские идеи, взгляды и представления композитор начал именно под его влиянием, о чём свидетельствуют обращения А. Н. Скрябина к истории становления философской мысли, изучение произведений мыслителей Античности и Средневековья: «При таком близком общении трудно представить, чтобы Скрябин был вовсе не посвящён во взгляды Трубецкого… Именно в эти годы он завершает свои основополагающие труды: “О природе человеческого сознания”, “Метафизика в Древней Греции”, “Основания идеализма”, “Учение о Логосе” [11, с. 335]».
Вероятно, что именно от С. Н. Трубецкого А. Н. Скрябин впервые узнал и о мистериях. По крайней мере, в названной выше работе философа «Метафизика в Древней Греции» имеется целый большой раздел, посвящённый подробному рассмотрению культовых обрядов и таинств Древней Эллады, в том числе и знаменитых элевсинских мистерий.
Версия В. Рубцовой косвенно подтверждают другие свидетельства. Известно, что во время поездки в 1895 году в Германию, которую композитор совершил с целью лечения болезни руки, А. Н. Скрябин сразу же поехал в Дрезден, чтобы посетить знаменитую картинную галерею. Из Гейдельберга в том же году он писал Н. В. Секериной: «… Я здесь нашёл много того, что уже давно ищу, – это памятники и развалины эпохи, которой я в настоящее время более всего интересуюсь [3, с. 45]».
Важность общения с С. Н. Трубецким подтверждает и тот факт, что философ также не только не остался равнодушен к творчеству А. Н. Скрябина, но и проявил удивительное его понимание, считая, что музыка композитора не носит шаблонный характер, она богата новыми свежими красками, изящна и проникнута богатой гармонией и совершенством [15, с. 385–386].
В начале 1900-х годов интерес к философии у А. Н. Скрябина заметно возрастает. По свидетельству Л. Сабанеева, А. Н. Скрябин в это время увлекался идеями Ф. Ницше и «сверхчеловечеством». Этот факт подтверждает и Б. Л. Пастернак, который в своих воспоминаниях писал, что А. Н. Скрябин «спорил с отцом [Л. О. Пастернаком] о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедовал сверхчеловека, аморализм, ницшеанство… [10, с. 100]». Но интерес А. Н. Скрябина не ограничивался философией Ф. Ницше. В письмах к Б. Ф. Шлецеру он сообщал, что интенсивно читал книги по истории философии: «Историю философии» Куно Фишера, «Очерки истории новой философии» Ф. Ибервега и М. Гейнце. В 1904 году А. Н. Скрябин в письме М. К. Морозовой рекомендует ей «усвоить Канта и познакомиться немного с Фихте, Шеллингом и Гегелем… [14, с. 307–308]», для того чтобы ей было легче воспринять его философское мировоззрение, которое, по мнению некоторых исследователей, сложилось у А. Н. Скрябина к 1904 году [7, с. 57].
Но если судить по многочисленным высказываниям композитора, сохранившимся записям, то оно представляло собой довольно сложный синтез идеалистической философии, пантеизма, ницшеанства и волюнтаризма. Для примера приведём некоторые из записей А. Н. Скрябина того времени: «И этот человек может гордо поднять голову и сказать: “Я победил тебя! Непроходимые дебри лесов и крутизны скал я обратил в парки… Я укротил тебя, гордый поток, и заставил служить мне; всё, что меня окружает, я подчи- нил своей воле и моему разуму” [9, с. 45]». Не случайно Л. Данилевич довольно безапелляционно назвал философскую концепцию мировоззрения А. Н. Скрябина солипсизмом1 [4, с. 271], что означает «единственный», крайний субъективизм, идеализм, своеобразный нравственный эгоизм, когда для представителя солипсизма важен и значим только он сам, все остальные – лишь фон. И действительно, анализируя эгоистическое высказывание А. Н. Скрябина, стремящегося всё его окружающее подчинить собственной воле, заставляет считать вывод Л. Данилевича обоснованным. Но в то же время в этих словах композитора выражена вера в силу творчества, в силу Духа, нравственные и эстетические убеждения композитора, что непосредственно нашло отражение в его творениях (например, финал Первой симфонии композитора и другие).
Но А. Н. Скрябин в своём поиске на этом не остановился, он продолжал интенсивно читать философские книги. В 1904 году, будучи в Женеве, он посещал философский конгресс и изучал сборник материалов конгресса, с особой тщательностью прорабатывал доклады о панпсихизме: выступления приват-доцента Женевского университета В. М. Козловского на тему «Сознание и энергия», А. Бергсона – «О психофизиологическом паралогизме». В библиотеке композитора хранился сборник философских докладов с многочисленными отметками А. Н. Скрябина.
В 1905 году в Париже А. Н. Скрябин познакомился с теософией, идеями и взглядами Е. П. Блаватской, в частности с её «Тайной доктриной», одновременно увлекался мистическими представлениями, читал книги об Индии, согласно письмам к своей жене Т. Ф. Шлецер, осваивал санскритскую грамматику «Свет Индии», котор ая стала его лю бимой книгой [16, с. 63].
В это же время состоялась его знаменательная встреча с Г. В. Плехановым, которая оказала сильнейшее влияние на композитора: он даже приступил к чтению «Капитала» К. Маркса. Несмотря на радикальное расхождение во взглядах, между Г. В. Плехановым и А. Н. Скрябиным завязалась острейшая полемика.
Ещё одна знаковая страница в духовном поиске композитора, о которой нельзя не сказать, – встречи и общение с деятелями так называемого символистского направления – «Общества свободной эстетики», которое было организовано под руководством В. Брюсова в Москве в 1907 году. В «Обществе» систематически проводились беседы, жаркие споры, дискуссии, литературные, музыкальные, театральные премьеры, теснейшим образом связанные с символизмом [7, с. 17]. Из мемуаров А. Белого известно, что «Общество» активно посещали различные музыканты, композиторы, пианисты, теоретики, музыкальные критики, бывал здесь и Скрябин [2, с. 193]. В последние годы А. Н. Скрябин часто встречался с поэтами Ю. Балтрушайтисом, В. Брюсовым и некоторыми другими.
Как видно, А. Н. Скрябин не оставлял без внимания ни одно мало-мальски значительное явление в духовной жизни как русской культуры, так и европейской. Но это не было метаниями потерянной души – ком-
Список литературы О философском мировоззрении А. Н. Скрябина
- Альшванг А. А. Жизнь и творчество А. Н. Скрябина // А. Н. Скрябин: сборник статей: к столетию со дня рождения (1872-1972) / [ред. и сост. С. Павчинского; общ. ред. В. Цуккермана]. Москва: Советский композитор, 1973. С. 61-159.
- Белый А. Между двух революций. Ленинград, 1934.
- Бэлза И. Ф. Александр Николаевич Скрябин. Москва: Музыка, 1982. 176 с.
- Данилевич Л. В. От Третьей симфонии к «Прометею» // А. Н. Скрябин: сборник статей: к столетию со дня рождения (1872-1972) / [ред. и сост. С. Павчинского; общ. ред. В. Цуккермана]. Москва: Советский композитор, 1973. С. 262-319.
- Зорилова Л. С. Духовно-творческий поиск А. Н. Скрябина // Музыкальная педагогика и психология: сборник научных статей. Выпуск 10 / под ред. Л. С. Зориловой. Москва: МГУКИ, 2010.