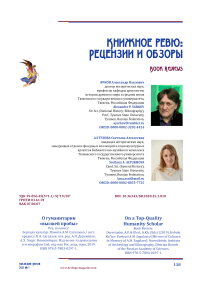О гуманитарии высшей пробы
Автор: Ярков Александр Павлович, Алтухова Светлана Алексеевна
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Рецензии и ревю
Статья в выпуске: 1 (25), 2021 года.
Бесплатный доступ
Рецензия на книгу: Зеркала культур: Памяти А. М. Сагалаева / сост., предисл. К. А. Сагалаев; отв. ред. А. П. Деревянко, А. Х. Элерт. Новосибирск: Изд-во ин-та археологии и этнографии Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, 2019. ISBN 978-5-7803-0297-1 Рецензируется книга, посвященная доктору исторических наук, профессору Андрею Марковичу Сагалаеву, выдающемуся российскому этнографу, педагогу, общественному деятелю. Коллективный сборник, авторами которого стали коллеги, ученики и близкие друзья Андрея Марковича, содержит научные статьи, полевые и архивные материалы, переводы, так или иначе связанные с темами мифологии, фольклора, культовых практик народов Сибири и Дальнего Востока. Вторую часть книги составили материалы, которые можно отнести к эпистолярному жанру (воспоминания, письма и газетная публицистика) и которые в более полной мере позволили раскрыть разносторонность научных интересов Андрея Марковича Сагалаева и грани его неординарной личности.
Андрей маркович сагалаев, томск, биография, научная и педагогическая деятельность, этнография, культура, архаическая культура, мифология, шаманизм, сибирь, дальний восток
Короткий адрес: https://sciup.org/170174878
IDR: 170174878 | УДК: 39-056.45(571.1/.5)”19/20” | DOI: 10.36343/SB.2021.25.1.010
Текст научной статьи О гуманитарии высшей пробы
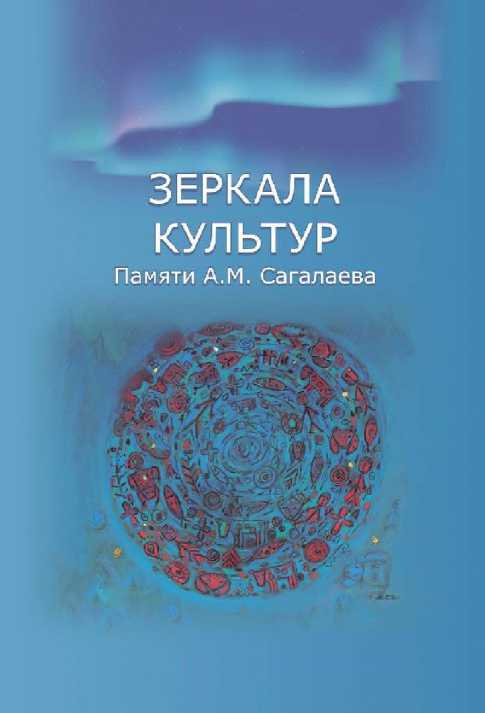
В кругу работ по культурной антропологии появилось ещё одно изданиe [1], отражающее состояние этого направления гу-манитаристики в Сибири. Оно вышло в свет в 2019 году и посвящено памяти Андрея Марковича Сагалаева (1953–2002) — выдающегося российского учёного, педагога, общественного деятеля, благодаря которому получила мощный импульс интеллектуальная среда Новосибирска и Томска.
Структурно книга состоит из двух частей. В первую — научную — включены статьи, архивные и полевые материалы отечественных и зарубежных исследователей, тематически созвучные трудам А. М. Сагалаева. Это вопросы этнографии, мифологии и фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Вторая часть сборника — сугубо биографическая — содержит воспоминания людей, знавших Андрея Марковича лично, а также его письма и избранные публицистические работы.
Самое удивительное в том, что, несмотря на биографичность книги, её «заточенность» на личность, главным героем и смысловым стержнем всех без исключения статей и материалов является культура. По представлениям самого Андрея Марковича, «культура не всегда должна воплощаться в храмах и городах, рукописях и идеях» [1, с. 309]. Она как бы имманентно присутствует во всем, что окружает (предметно-материальном мире), и в том, что присутствует в нас (представления, мысли и смыслы о мире и нас самих в этом мире).
На фоне ещё расхожего тезиса об «уровнях» культуры, ложного разделения её на «высокую» и «не совсем…» не случайным кажется выбор заглавия книги — «Зеркала культур», отражающего и множественность культуры, и стремление отразить этот феномен в исследованиях, публикациях, обсуждениях.
Андрей Маркович не был культурологом в прямом (и узкодисциплинарном) смысле. Он был широко мыслящим ученым, работавшим на «передовой», то есть «в поле». Его многочисленные этнографические и археологические экспедиции и профессиональные поездки в Хакасию, на Алтай, на север Западной и в Восточную Сибирь, в Соединенные Штаты Америки и Японию как бы соединили, замкнули в жизни одного человека Запад и Восток, традиционность и современность.
Исследовательская позиция А. М. Сагалаева во многом обусловлена его пониманием культуры как синтетического явления. Идея очень емко выражена в его высказывании об архаической культуре (оно вынесено на нижнюю крышку переплета сборника): «Жизнь народов Сибири — это не черновики Истории или ее неудачные варианты. Это просто иной путь, единственно возможный в их экологической нише… Архаичная культура не нуждается ни в защите, ни в оправдании. Она требует понимания».
В первую часть сборника вошли работы известных отечественных гуманитариев: А. А. Бадмаева, А. В. Бауло, А. В. Головнёва, Д. Г. Коровушкина, В. И. Молодина, Н. Р. Ойнот-киновой и др., отчасти отразив научные интересы самого Сагалаева.
А они были достаточно разносторонни: архаичное мировоззрение и духовная культура коренных народов Южной и Западной Сибири, процессы взаимодействия мировоззрения коренных народов Сибири и мировых религий. Конечно, сфера основных интересов лежала в плоскости исследования культуры тех, кто издавна проживал в Сибири и на Дальнем Востоке. Но не менее интересны читателю наблюдения и размышления Андрея Марковича о современности, о происходящих трансформациях (а всегда ли «модернизациях»?) постсоветского общества. Анализировались ученым глобальные и локальные (сибирские, например) политические процессы, что отражено во второй части сборника.
Темой научных интересов А. М. Сагалаева являлся и шаманизм. Сагалаев считал, что этот феномен выходит за узкие рамки эволюционной теории (определяющий шаманизм как начальную стадию религиозного мировоззрения), предваряющей появление мировых систем. В его понимании, сибирский ша- манизм — это особая форма натурфилософии природы с ее уникальным комплексом представлений, обрядово-ритуальной и культовой составляющими.
В сборнике практики шаманизма рассматриваются широко. Так, концептуальный «срез» прослежен в статье Д. Ю. Доронина «Конструируя шаманизм: новые значения для алтайской фольклористики». Автор оспаривает «универсально-стадиальную модель» шаманизма, согласно которой он рассматривается через полноту сохранности цельного мифо-ритуального комплекса, включающего и шаманские мистерии, и ритуальное облачение с культовыми предметами, и мифологические представления о божествах и духах, и практики, связанные с психофизиологическими аспектами деятельности шамана — шаманским даром, шаманской болезнью, посредничеством и трансом. В противовес этому Доронин предлагает рассматривать шаманизм как «сложный неоднородный конструкт, к созданию которого в разное время оказались причастны путешественники, этнографы, отцы-миссионеры, психиатры, атеистические работники и религиоведы, журналисты и эзотерики, психотерапевты и (нео)шаманы, работники культуры и национальные лидеры» [1, с. 92]. Эта «панорама» предстает перед авторами рецензии в экспедициях, когда «шаманами наряжаются» бывшие фельдшера и деятели культуры. Причина перевоплощения, полагаем, не только примитивно-утилитарная (меркантильная). Очевидно, следует согласиться с Д. Ю. Дорониным, что определяющей тенденцией современного шамановедения является переход с макроуровня эволюционных реконструкций на микроуровень. Он понимается как переключение внимания с построения эволюционно-стадиальных моделей шаманизма (и его включения в общую сетку развития религиозного мировоззрения) на анализ контекста бытования конкретных разновидностей и исследование «низового уровня» этого конструирования в среде его «носителей» [1, с. 92].
В русле последней тенденции выстроено большинство статей, включенных в сборник. Некоторые посвящены фиксации и введению в научный оборот ритуальных текстов и ша- манских обращений, малых жанров фольклора и личных историй современных «неошаманов». Значимость этих исследований трудно переоценить. В частности, Р. К. Бардина, обратившись к записи личных песен П. М. Тын-зяновой (судьба ее весьма типична для современных обских манси), отметила, что они оказались зафиксированными совершенно случайно и были известны лишь узкому кругу людей, в основном родственникам и близким [1, с. 181]. Другой автор — Г. Е. Солдатова — записала три текста из поселения Щекурьи, полностью их расшифровав.
В сборнике присутствуют и уникальные материалы. Иные представляют этнографическую ценность, потому как собраны сто (и более) лет назад. К ним относятся записи космологических воззрений вогулов (манси), сделанные финским исследователем А. Каннисто в начале ХХ в. и переведенные Н. В. Лукиной. З. Надь и Н. Тучкова публикуют селькупские сказки, собранные выдающимся венгерским ученым-путешественником, этнографом и лингвистом К. Папаи в 1888 г. Это, заметим, первые фольклорные сборы у среднеобской (иванкинской) группы селькупов.
Ряд опубликованных в сборнике статей посвящен генезису мифологем, выявлению общего и особенного в мифологических сюжетах разных этносов и этнических групп, поиску заимствований и источников происхождения отдельных мифических (культурных) героев и сюжетов.
А. М. Сагалаев замечал, что деление мира на три уровня — Верхний, Средний и Нижний — слишком условно. Изучать же их необходимо в контексте того, каким его видят сами носители. Но многие авторы верны схеме: Н. Р. Ойноткинова обратилась к исследованию архетипов мифологических персонажей (присутствующих в шаманской мифологии алтайцев), а именно к божествам нижнего пантеона: Падыш-Керей, Падыш-Бёкё, Шынай-Каан, где первые два имени, замечено, позаимствованы в исламском мире. Ойноткинова пришла к выводам, что иные шаманские тексты сохраняют древнейшие архетипы и символы, связанные с представлениями об устройстве мира, о жизни на земле и потустороннем мире. На основе этнолингвистического анализа имен этих бо- жеств исследовательница выявила, что они могли возникнуть на «базе» архетипов, существовавших в древних мифологиях, в частности, в древнегреческой и шумеро-вавилонской. Сказано, что «Образ Падыш-Керея „в лодке без весел“ ассоциируется со старым Хароном, перевозчиком душ в подземном царстве Аида. Образ Бий-Дьабаша с гривой жеребца находит параллель с кентавром, а образы Шынай-ха-на, поднимающего потоп, и Падыш-Бёкё, проглатывающего жернова, ассоциируются с подземными титанами, вызывающими различные природные стихии. Образ Киштей можно сравнить с Медузой, с одной из трех древнегреческих Горгон». Объяснение столь глубоких корней алтайской мифологии автор находит в культурно-исторических контактах предков алтайцев с другими народами, разноплеменном составе тюркских этносов Южной Сибири, что подтверждает синкретичный характер архаичного фольклора [1, с. 44–45].
Н. О. Тадышева рассматривает мифологические представления тюрков Саяно-Алтая на примере трёх образов: «огонь — молоко — дерево». С одной стороны, она отмечает, что сюжеты прослеживаются во многих мифах алтайцев, тувинцев и хакасов. Это можно объяснить их общей историей и сохранением близкого культурного «кода». Как и тем, что сюжеты относятся к неким мировоззренческим универсалиям, определяемым природным и историческим опытом. С другой стороны, каждый этнос формирует собственный образ мира, выражающий присущую только ему картину мира [1, с. 70–71].
К схожим выводам приходит и О. В. Василенко, обратившись к изучению казымского локального варианта хантыйской мифологемы «река» в обрядовом песенном фольклоре. По ее мнению, «мифологема реки питает образно-символический параметр сакральных и профанных песен Медвежьего праздника. Мифологема реки представляет собой важнейшую единицу. Очевидным становится и присутствие в культуре северных (казым-ских) ханты не только номинативной функции («обживание мира» в именах, реформирование мира через его переименование), но и коммуникативной (мифологемы в качестве «слов» ритуального словаря общения). Это реализует концепты мифологического мышления; имеет стабильное содержание (и тем приближается к аллегории). Мифологема реки, например (1, с. 160), — это «ценностная форма культурной памяти этноса». Таким образом проявляются семантические возможности как внутри заданной содержательной традиции, так и в сочетании с другими мифологемами.
Несколько статей посвящены изучению зооморфных образов. Например, образ змеи в мифологии бурят рассматривается в работе А. А. Бадмаева; орнитологическим сюжетам в религиозных представлениях и мифотворчестве народа манси посвящена статья А. А. Лю-цидарской и Е. М. Мелешко. Подобные исследования значительно пополняют архивный багаж науки, так как наглядно визуализируют и конкретизируют отдельные фрагменты картины мира различных регионов и социумов, выявляя символику и семантику их мифологем и культов.
Особое место в сборнике занимают работы, посвященные описанию культовообрядовых и ритуальных элементов. Наверное, именно эту деятельность Андрей Маркович считал самой значимой для этнографа, поскольку только так и можно исследовать культуру. Ведь у нее нет заданных «изначально» универсалий. Нет и абсолютно идентичных сюжетов. Соответственно, каждая из культур («больших» и «малых») уникальна. Это отражается в ритуальных практиках и в мифологических сюжетах, в культах и традициях, в предметно-бытовой среде. Описывая и фиксируя их, этнограф не только работает на сохранение этих элементов, но и изучает традицию, погружается в нее, принимает ее смыслы и ее язык. Тем более что чем дальше от нас отстоит элемент (явление / дискурс) культуры, тем труднее детально и достоверно описать его. Сложно найти носителей и тех, кто помнит…
Пессимистична ситуация в традиционном для Горного Алтая виде промысла. Об этом пишет (и это его право) Д. Г. Коровуш-кин, считая, что за небольшой исторический период (в сто лет) в охотничьем промысле жителей произошли колоссальные и необратимые изменения. Культурная традиция автохтонов, чья экономика базировалась на этом промысле (вплоть до позднесоветского периода), в настоящее время трансформировалась в охоту ради развлечения. А это весьма затратное средство получения удовольствия от собственного умения и удачливости.
Сложно обстоит дело с сохранением погребального обряда у северных ороков (уйльта). По материалам, собранным еще советскими этнографами Б. А. Васильевым и Ю. А. Семом, Л. В. Озолиня удалось восстановить содержание этого обряда и определить, что он во многом сходен с обрядами погребения амурских тунгусо-маньчжуров. Тогда как в настоящее время в Сахалинской области (где компактно проживают северные ороки) этот обряд полностью утрачен, без сохранения даже устных преданий о нем.
Подобным образом дело обстоит и с этикетными нормами нганасан, которые ранее были представлены в иносказательных песнях кэйнгэйрся, существовавших до последнего времени и выполнявших этикетную функцию. Особенно в ситуациях, когда прямое речевое общение между людьми было запрещено или нежелательно (в частности, при знакомстве юношей и девушек, в ситуациях ссор, соперничества и др.). О. Э. Добжанская пишет, что кэйнгэйрся как живое фольклорное явление не сохранился, оставшись только в памяти пожилых людей, наблюдавших его в прошлом и запомнивших [1, с. 226].
Прочитывая сборник, ловим себя на мысли, что тексты авторов отражают взгляды разных направлений гуманитарного знания. Археологи пытаются реконструировать вещный мир, воссоздавая утраченный контекст. Этнографы печалятся о безвозвратно ушедшем. Культурологи увещевают: во все времена утраты и потери в культуре (она не монумент) реальны 1, но важно различать, по каким статичным или динамичным законам развиваются эти элементы — отступают под напором цивилизации и технического прогресса или эволюционируют, трансформируются.
Как представляется, К. А. Сагалаев принимал диалектику культурных трансформаций, осторожно относясь к теории модерни- зации (в годы его деятельности еще «пробивавшуюся» в отечественной науке). Сохраняя традицию, важно понимать, чем вызвано ее бытование в новых условиях и насколько новации естественны. В статье самого К. А. Сагалаев, посвященной культовым практикам обитателей реки Юган (и написанной по материалам экспедиций), подтверждается сохранение в живом виде прежнего, а именно почитания семейных духов-покровителей. Отмечено использование в бытовом общении хантыйского языка и ношение в повседневном быту (женщинами) национальной одежды, регулярное проведение Медвежьего праздника [1, с. 201].
На фоне «плача Ярославны» отдельных этнографов оптимистичен взгляд Э. В. Енчино-ва, подробным образом описывающего один из значимых ритуалов алтайцев — Арчын (добыча можжевельника2) [1, с. 91]. Следование ему подтверждает не только его роль в сплочении людей, сохранении знаний, передаваемых из поколения в поколение, сохранении «сетки» ритуалов, но и его значение в поддержании и трансляции этнической идентичности жителей Горного Алтая (тех, для кого важен механизм активизации — сопричастности совершающего обряд к защите «нити» исчезающих традиций).
-
Н. А. Тучкова рассмотрела правила селькупского гостевого этикета, отражаемого в фольклоре. Она смогла выявить тот факт, что целый ряд селькупских фольклорных текстов несёт в себе мощный соционормативный и педагогический заряд. Именно сказки — основной хранитель информации о правилах этикета. В традиционной селькупской культуре (для которой характерна немногословность и сдержанность речи в передаче опыта) через сказки прививались знания: как «правильно» встречать и провожать гостей; как «неправильно» себя вести и «какими опасностями это чревато» [1, с. 243].
Есть в сборнике и материалы, позволяющие приблизиться к исследовательской «кухне» этнографа, раскрывающие специфику технологии его ремесла. К таковым можно отнести статью А. В. Бауло, посвященную истории открытия тайны инициалов «ПБ». Они были оставлены на серебряной пластине из сборов совместной экспедиции автора статьи, А. М. Сагалаева и И. Н. Гемуева по северным районам Западной Сибири. Автор подробно описывает исследовательский путь, каким образом шел поиск, погружаясь в фонды местных и столичных музеев, атрибутируя различные предметы, обладающие внешним сходством технологического исполнения и сюжетов нанесенных рисунков. Так определилось имя мастера серебряных дел — тоболяка Петра Брюханова. Было (попутно) объяснено применение ряда предметов в обрядовой практике угров. При этом автор сделал значимое открытие о взаимовлиянии культур — пришлой и аборигенной, когда русские мастера специализировались на производстве металлических изделий для духовных практик [1, с. 138].
Не менее интересен рассказ об опыте работы киностудии «ТГУ-фильм» и студии «Ви-зан» и их роли в становлении отечественной визуальной антропологии (статья В. В. Шубина). Ведь «За многолетнюю деятельность сотрудниками студии было создано более 100 научных и научно-популярных фильмов и телевизионных передач <…> накоплен богатейший архив фотодокументов, насчитывающий десятки тысяч единиц хранения, собран обширный фольклорный архив с записями носителей традиционной культуры коренных народов Сибири» [1, с. 169].
И неспроста замыкает первую часть сборника «Зеркала культур» статья А. В. Головнёва, делая «круговой поворот» к началу разговора — о преемственности культур, первобытных и современных, особенностях научных подходов, школ и дисциплин — археологии и этнографии (статья В. И. Молоди-на и Н. С. Ефремова «Культовые сооружения кыштовской культуры — от эпохи Средневековья до Нового времени»). Головнёв, исследуя движение кочевников, находит проявление этого алгоритма не только в «кружевном» («лепестковом») дизайне движения стада, но и в свадебном караване ненцев, в обряде захоронения, ритуальном танце. Его вывод парадоксален: «пространственное кружение представляет интерес не только как поведенческий эффект, но и как универсальный прием физического и ментального охвата пространства» [1, с. 257]. Именно круговой «орнамент», присутствующий во многих культово-обрядовых практиках, во многих образах и мифологических сюжетах говорит о связи индивидуального и коллективного, временного и целостно-пространственного. Круговое движение обладает социальноиндивидуальной энергией и очень близко эт-ничности, ассоциативно с ней.
Научная значимость представленного сборника заключается не только в том, большинство работ фиксируют и вводят в научный оборот внушительное число этнографических материалов, источников устного творчества. Представленные работы наглядным образом подтверждают идею Андрея Марковича Сагалаева о том, что любые попытки составления «всеобъемлющей», «универсальной», картины мира, схемы пантеона или культовообрядовых практик шаманизма обречены на провал. И не только потому, что собранная информация не полна, фрагментарна и не комплексна. Но и, в первую очередь, потому, что каждая локальная группа разрабатывает свои варианты преданий и мифов, свою картину мира.
При этом для каждого социума и индивида этот комплекс обладает характерными чертами, находящими отражение в мифологических сюжетах и в культово-обрядовых практиках. Каждый из шаманов на практике создавал свойственную только ему «виртуальную Вселенную». Эта модель, разумеется, во многих чертах совпадала у представителей одной или нескольких анализируемых групп. Подобные модели включают также более древние символы и архетипы, свойственные широкому кругу людей [1, с. 35].
Согласимся с Андреем Марковичем Сагалаевым: «Культура многогранна, и приходится вникать» [1, с. 52].
Alexandr P. YARKOV
Список литературы О гуманитарии высшей пробы
- Зеркала культур: Памяти А. М. Сагалаева / сост., предисл. К. А. Сагалаев; отв. ред. А. П. Деревянко, А. Х. Элерт. Новосибирск, 2019