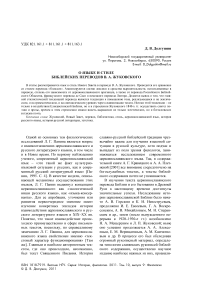О языке и стиле библейских переводов В. А. Жуковского
Автор: Долгушин Дмитрий Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение и фольклор
Статья в выпуске: 9 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается язык и стиль Нового Завета в переводе В. А. Жуковского. Проводится его сравнение со стилем перевода «Одиссеи». Анализируются состав лексики и средства выразительности, использованные в переводе, степень его зависимости от церковнославянского оригинала, а также от перевода Российского Библейского Общества, французского перевода де Саси и немецкого перевода Лютера. Делается вывод о том, что главной стилистической тенденцией перевода является тенденция к повышению тона, реализующаяся и на лексическом, и на грамматическом, и на синтаксическом уровнях через славянизацию текста. Истоки этой тенденции - не только в воздействии Елисаветинской Библии, но и в стремлении Жуковского 1840-х гг. осуществить синтез поэзии и прозы, причем в этом стремлении можно видеть выражение не только эстетических, но и богословских взглядов поэта.
Жуковский, новый завет, перевод, библеистика, стиль, церковнославянский язык, история русского языка, история русской литературы, эстетика
Короткий адрес: https://sciup.org/14737612
IDR: 14737612 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи О языке и стиле библейских переводов В. А. Жуковского
Одной из основных тем филологических исследований Л. Г. Панина является вопрос о взаимоотношениях церковнославянского и русского литературного языков, в том числе и в Новое время. По верному наблюдению ученого, современный церковнославянский язык – «это такой же факт культурноязыковой ситуации у русских, как и современный русский литературный язык» [Панин, 1995. С. 4]. В качестве модели, описывающей механизмы сосуществования этих языков, Л. Г. Панин выдвинул концепцию церковнославянского как «экологической ниши русского языка», как «языка-консерванта». Для ее апробации, уточнения или развития первоочередное значение имеет изучение конкретных эпизодов истории взаимодействия церковнославянского и русского литературного языков в XIX–XX вв. Понятно, что такое взаимодействие происходило преимущественно в сфере письменных текстов, поскольку, по справедливому замечанию Л. Г. Панина, для церковнославянского языка свойственен именно «текстовый характер функционирования» [Там же]. Главным и наиболее авторитетным текстом, где оно происходило, несомненно, был текст Священного Писания. История славяно-русской библейской традиции чрезвычайно важна для изучения языковой ситуации в русской культуре, хотя подчас и выпадает из поля зрения филологов, занимающихся исследованием современного церковнославянского языка. Так, в содержательной книге А. Г. Кравецкого и А. А. Плетневой [2001] все внимание сосредоточено на богослужебных текстах, а тексты библейского содержания почти не упоминаются.
В изучении текста церковнославянского перевода Библии и его бытования в Древней Руси к настоящему времени достигнуты значительные успехи. Исследование истории церковнославянской Библии было начато А. В. Горским и К. И. Невоструевым, продолжено И. Е. Евсеевым, Г. А. Воскресенским, А. В. Михайловым, М. Н. Сперанским и др., затем (после вынужденного перерыва в 1920–1930-е гг.) возобновлено Н. А. Мещерским и Л. П. Жуковской; ныне оно успешно продолжается А. А. Алексеевым, Е. М. Верещагиным, А. М. Камчатно-вым и др. В процессе его был обследован огромный рукописный материал, определена типология славянских рукописей библейского содержания, осуществлено научное издание наиболее важных из них, проанали-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 9: Филология © Д. В. Долгушин, 2011
зированы особенности различных переводческих школ и разные редакции, выявлен оригинал (греческий, латинский и древнееврейский) церковнославянских переводов.
Прямо противоположная ситуация сложилась в изучении истории русского текста Библии. Мы не имеем не только подробной истории переводов Библии на русский язык 1, но и научных изданий этих переводов (даже Синодального!), и, что особенно досадно, – не имеем четких текстологических правил их публикации 2. Неясным остается вопрос о текстологической основе многих русских переводов, недостаточно проанализированы их концептуальные и стилистические особенности. Вполне вероятно, что некоторые переводы остаются до сих пор не выявленными, и в этой области возможны настоящие открытия 3.
Хотя изучение истории перевода Библии на русский язык началось еще в XIX в. трудами И. А. Чистовича, И. Н. Корсунского, П. Н. Астафьева, однако их работы, являясь лишь самыми первыми подступами к проблеме, затрагивали, по выражению И. А. Чисто-вича, только «внешнюю сторону дела» [1997. С. 15–16], т. е. описывали конкретноисторический контекст переводов Библии на русский язык. В советское время изучение русской Библии стало совершенно невозможным: ее исследователи, в отличие от своих коллег-славистов, не смогли бы замаскировать объект исследования под эвфемизмом «памятники традиционного содержания» или «древнейшие славянские рукописи». В последнее время изучение русской Библии возобновилось [Сорокин, Логачев, 1975; Макринов, 1986; Мангер, 1997; Десницкий, 1998; Журинская, 1999; Алексеев, 2002; Реморов, 2003], и все же в ее истории остается еще множество «белых пятен». Одним из них, несомненно, являются библейские переводы В. А. Жуковского 4.
В 1844–1845 гг. поэт сделал полный перевод Нового Завета с церковнославянского на русский язык. Местонахождение рукописи этого перевода долгое время оставалось неизвестным. Совсем недавно она обнаружилась. В мае 2007 г. рукопись была куплена у потомков дочери поэта Александры Васильевны Жуковской-Вёрман СлавяноБалтийским отделом Публичной библиотеки г. Нью-Йорка и в настоящее время хранится в США. Сообщение о находке этой рукописи, представляющей собой черновой автограф Жуковского, и ее первое археографическое описание сделала И. В. Рейф-ман [2008]. Кроме этого автографа перевода существует еще его писарская копия 1885 г., хранящаяся в Институте русской литературы РАН (Пушкинском Доме) под шифром Р. 1. Оп. 9, ед хр. 54. Пословная сверка копии с автографом не проводилась, но предварительное сличение показывает, что копия отражает особый вариант, а в части Послания к евреям – даже особую редакцию текста. Поскольку в записи на копии указано, что она сделана с подлинной рукописи, правомерно предположить: кроме хранящегося ныне в Нью-Йорке, имелся еще один автограф перевода (вероятно, чистовой, сделанный Жуковским в 1850 г.). Местонахождение этого гипотетически реконструируемого автографа неизвестно. Новый Завет в переводе Жуковского издавался дважды, уже после смерти своего создателя. Первое издание было осуществлено К. П. Победоносцевым при содействии протоиерея Алексия Мальцева в 1895 г. в Берлине по черновой рукописи 1844–1845 гг. [Новый Завет, 1895]; второе – Ф. З. Кануновой, И. А. Айзи-ковой и священником Димитрием Долгушиным в Санкт-Петербурге в 2008 г. по тексту берлинского издания (с указанием вариантов по писарской копии 1885 г.) [Новый Завет, 2008]. Нужно упомянуть еще опубликованный Ю. М. Прозоровым перевод первых глав Евангелия от Матфея и нескольких псалмов [Из рукописного наследия В. А. Жуковского, 1994], сохранившийся в папке с заглавием «Манускрипты свои» в фонде В. А. Жуковского в Российской национальной библиотеке. Эти издания образуют ис-точниковую базу, на основе которой можно заниматься изучением языка и стиля библейских переводов Жуковского 5. Некоторым аспектам такого изучения посвящена данная работа.
Насколько мне известно, язык позднего Жуковского не был предметом специального изучения. Однако есть довольно обстоятельное исследование языка одного из произведений Жуковского этого периода, причем такого, которое создавалось одновременно с переводом Нового Завета – речь идет об «Одиссее» [Ярхо, 2010]. Замечу, что замысел «Одиссеи» у поэта-романтика выходил далеко за рамки культуртрегерского желания дать отечественной культуре «русского Гомера». Жуковский рассчитывал, что его перевод напомнит читателям об идеальном эпическом мире древности, куда нет доступа «визгам» 6 современности, и тем самым очистит удушающую атмосферу 1840-х гг. от источаемых Европой миазмов революции. Он видел в нем свое духовное завещание России, и если перевод Нового Завета Жуковский писал, чтобы «оставить по себе добрый памятник своим детям» [Сочинения и переписка П. А. Плетнева, 1885. С. 649], то перевод «Одиссеи» – чтобы оставить «добрый памятник» своим соотечественникам. Концептуальная и хронологическая близость того и другого переводов позволяют поставить вопрос о сходстве их языка.
В статье, посвященной исследованию языка «Одиссеи» Жуковского, В. Н. Ярхо указывает на несколько его характерных черт, в частности: 1) «обилие и богатство сложных прилагательных» (т. е. двукорневых (а иногда и многокорневых) слов, созданных по образцу греческих, например: бесплодносоленая , звонкоприятный , медно-кованный и т. п.); 2) умеренное (особенно на фоне «Илиады» Гнедича) количество грамматических и лексических славянизмов (причем среди последних встречаются как обычные для поэтического языка первой половины XIX в., так и «заведомо архаичные»); 3) использование вульгаризмов (просторечий); 4) употребление русской «былинно-сказочной» лексики. Рассмотрим, проявляются ли эти черты в языке перевода Нового Завета [Ярхо, 2010].
Во-первых, бросается в глаза, что в нем нет упомянутых В. Н. Ярхо сложных прилагательных: являясь приметой гомеровского стиля, они характерны именно для «Одиссеи», в которой Жуковский достигает виртуозного мастерства в их конструировании. Но единичные примеры аналогичных им лексических изобретений встречаются и здесь. Так, , в Мф. 4, 24 цсл. месячные (переведенное в Новом Завете Российского Библейского Общества (РБО) лунатики ) Жуковский переводит сноходы , а в Ин. 8, 59 цсл. мимохождаше – мимошествовал . Однако это единичные случаи. В целом, использование такого рода лексики для перевода Нового Завета нехарактерно.
Почти так же обстоит дело и с вульгаризмами. Они изредка встречаются у Жуковского, но не играют сколько-нибудь существенной роли в формировании лексического облика его текста (в отличие от перевода «Одиссеи», язык которого строится, во многом, на «сопряжении» архаизмов и вульгаризмов [Ярхо, 2010. С. 473]). Любопытно, что использование их часто связано с описанием болезней. Так, стих Деян. 28, 8 («бысть же отцу Поплиеву огнем и водным трудом одержиму лежати»), осторожно переведенный РБО «и случилось, что отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе», Жуковский с грубоватой прямотой переводит: «отец Публия был болен горячкою и кровавым поносом». И в немецком переводе Лютера, и во французском переводе де Саси, с которыми сверялся Жуковский, здесь стоит лишенное физиологических подробностей нем. die Ruhr, фр. la dysenterie, вполне соответствующие греч. º dusenter∂a. Вероятно, поэт в своем переводе опирался на немецкий текст и, не найдя подходящего аналога немецкому слову (имевшееся в русском языке заимствование дизентерия, фиксируемое словарем А. Д. Михельсона 1865 г., либо было неизвестно Жуковскому, либо не устраивало его своим научно-академическим оттенком), предпочел вульгаризм понос расплывчатому эвфемизму Елисаветинской Библии. В Мф. 9, 35 Жуковский переводит выражение всякую язю (РБО: всякую немощь) просторечием всякую заразу; стих Мф. 7, 4 «да изму сучец из очесе твоего» (РБО: «дай, я выну спицу из глаза твоего») переводит «дай вынуть занозу из ока твоего» (возможно, под влиянием немецкого перевода Лютера, где используется слово der Splitter ‘щепка, заноза’). К числу подобных просторечий можно отнести и использование в Лк. 12, 7 слова воробей вместо стоящего в церковнославянском тексте птица («мнозех птиц унши есте вы» / «множества воробьев вы дороже»). Эта лексическая замена, уже апробированная РБО, хотя и точно соответствовала реалиям Палестины (греч. tÒ strouq∂on означает именно ‘воробей’), но современниками Жуковского воспринималась как очевидный вульгаризм [Новый Завет, 2000б. С. 27] (возможно, она была сделана поэтом под влиянием не только РБО, но и немецкого текста, где используется слово der Sperling ‘воробей’). Впрочем, в параллельном месте Мф. 10, 29 Жуковский сохраняет стоящее в церковнославянском птица.
«Былинно-сказочная» русская лексика, к числу которой В. Н. Ярхо относит такие слова, как палаты, кравчий, почивает, вено, вельможа, горница, постель и т. п. и которую он считает в высшей степени характер- ной для «Одиссеи», практически не использовалась Жуковским при переводе Нового Завета. Слова постель, постельничий встречаются по одному разу в Деян. 5, 15 и в Деян. 12, 20, но просто воспроизводят стоящие в соответствующих местах слова церковнославянского оригинала. Слово вельможа употребляется Жуковским 5 раз, в двух случаях оно совпадает с церковнославянским, а в остальных, служа для передачи цсл. силен (Деян. 8, 27), князь (Мк. 6, 21), велицыи (Мк. 10, 42), не придает тексту сколько-нибудь явного «былинно-сказочного» оттенка (во всех этих случаях такое же слово использовано и в РБО). То же самое следует сказать о слове горница. Жуковский употребляет его 7 раз, полностью воспроизводя словоупотребление Елисаветинской Библии. РБО также почти во всех соответствующих местах пользуется этим словом – исключение составляет только стих Деян. 10, 9, в котором вместо горница в РБО читается верх дома. Такая замена объясняется, несомненно, не стремлением избежать «былинно-сказочного» колорита, а желанием переводчиков и редакторов РБО отразить бытовые реалии Палестины. Ведь в этом стихе описывается, как апостол Петр взошел помолиться «ep∂ tÒ dῶma». Греческое выражение ep∂ tÒ dῶma и передано цсл. на горницу. Речь идет, конечно же, о крыше дома, которая служила на Ближнем Востоке местом отдыха, но церковнославянский текст можно понять и в том смысле, что апостол взошел в комнату верхнего этажа. Для того чтобы устранить эту аберрацию, создателям РБО и пришлось отказаться от слова горница.
В целом, данное слово, вопреки мнению В. Н. Ярхо, в первой половине XIX в. не имело «былинно-сказочного» или даже архаического оттенка. Оно было вполне обиходным и означало либо, в соответствии со своим первоначальным значением, верхнюю комнату, либо комнату вообще. Довольно часто в быту его использовал и Жуковский – об этом свидетельствуют письма поэта. Так, в 1844 г. в письме А. И. Тургеневу он с ностальгией вспоминает «горницы Московского университета» [Жуковский, 1878. C. 419], где они встречались в молодости; 9 августа 1825 г. в письме А. С. Пушкину просит: «сделай так, чтобы на той квартире, которую займешь для себя, была горница и для моего Мойера» [Пушкин, 1937. С. 204], а описывая С. Л. Пушкину последние часы жизни его сына, рассказывает, что супруга поэта, «как приведение, прокрадывалась в ту горницу, где лежал ее умирающий муж» [Жуковский, 1916. С. 34]. Действие драмы «Камоэнс», написанной Жуковским в 1839 г., разворачивается в «тесной горнице в большом лазарете лиссабонском» [Жуковский, 1918. С. 100]. Таким образом, слово горница следует отнести к числу стилистически нейтральных.
Из всех особенностей языка Жуковского-переводчика «Одиссеи» для перевода Нового Завета характерна только славянизация. Она проявляется и на грамматическом, и на синтаксическом, и на лексическом уровнях. Для удобства изложения позволю себе повторить уже приводившиеся мною в другом месте [Долгушин, 2008б. С. 426] примеры славянизмов.
-
1. Лексические славянизмы. Жуковский широко использует не только те церковнославянские слова, которые были приметой высокого стиля и уже давно прочно обосновались в поэтической речи ( приять , власы , брег , ладия , очи , глаголы , глад , храмина , ковчег , сретение , кормило , одесную , рек , ланиты , мрежа , рыбарь и т. п.), но и те, которые в первой половине XIX в. уже были в ней малоупотребительными ( онполъ , мыт-ница , зелие , пенязь , скудельница , вайи , сту-денец , убрус , позорище ‘зрелище’, кошница , стклянница и т. п.).
-
2. Грамматические славянизмы. В своем переводе Жуковский часто использует: а) церковнославянские собирательные формы и формы множественного числа ( листвие , ка-мение , словеса , братия , человеки и т. п.); б) церковнославянские числительные ( един , седмь , дванадесять , четыренадесять , три-десять и пр.); в) церковнославянские падежные формы существительных ( лице , с небеси и пр.); г) родительный падеж прилагательных женского рода на -ыя ( тленныя пищи (Ин. 6: 27), воды живыя (Ин. 7: 38), ослицы подъяремныя (Мф. 21: 5), единыя вины (Деян. 13: 28) и т. п.); д) краткие причастия ( пришед , вошед , вышед , сошед , на-шед , прошед , убиен и т. п.); е) церковнославянские формы вспомогательного глагола быти (писано есть , Я есмь пастырь добрый, Я есмь дверь, Иже еси на небесех и т. п.).
-
3. Синтаксические славянизмы. Жуковский использует а) присоединение придаточных предложений и определительных
оборотов с помощью конструкции он же , она же , они же (град, его же имя Назарет (Лк. 1, 26), клятву, ею же клялся Аврааму (Лк. 1, 73), и много народа шло за Ним; они же видели чудеса Его (Ин. 6, 2), о Сыне Своем, Он же родился от семени Давидова по плоти (Рим. 1, 3) и т. п.); б) дательный самостоятельный: И вступившему Ему в Капернаум, приблизился к Нему сотник (Мф. 8, 5), Наставшему же вечеру, привели к Нему беснованных много (Мф. 8, 16)); в) калькированные синтаксические конструкции (Жуковский систематически воспроизводит формулу отвещав рече ).
Славянизированность перевода Нового Завета значительно превосходит славянизи-рованность перевода «Одиссеи». Можно сказать, что и вообще столь систематическая и массированная славянизация беспрецедентна для Жуковского. Конечно, и раньше поэт пользовался славянизмами, но, как правило, в стихотворных произведениях, где их употребление обусловливалось целями версификации [Ильинская, 1970. С. 77–88] или перекличкой с одической традицией. В прозе же Жуковского в ранний период безраздельно господствовал карам-зинистский «приятный стиль» (даже в тех случаях, когда он создавал религиозные тексты 7). В 1840-е гг. Жуковский художественной прозы не писал, но в языке его религиозно-философской и политической публицистики, которой он с увлечением предавался в то время, славянизмы не занимали сколько-нибудь значимого места.
Языковое поведение Жуковского-переводчика Нового Завета вообще разительно противоречит языковой программе круга Н. М. Карамзина, которой он следовал с самого начала своей литературной деятельности. Наиболее впечатляющим примером этого противоречия является обильное использование Жуковским союзов понеже и поелику (для перевода цсл. яко и зане ), которые воспринимались карамзинистами как вопиющие архаизмы и канцеляризмы 8.
В переводе Жуковского понеже встречается 283 раза, поелику - 46 раз, почти столько же, сколько нейтральные ибо (363 раза) и потому что (11 раз). Любопытно было бы сравнить это словоупотребление с РБО. К сожалению, у меня нет статистики по всему Новому Завету, но в Евангелии от Матфея в переводе Жуковского союз понеже встречается 17 раз, союз поелику – 3 раза, в то время, как в Евангелии от Матфея в переводе РБО они не встречаются ни разу.
Можно сказать, что ни один текст Жуковского – прозаический или поэтический, ранний или поздний – не насыщен славянизмами в такой мере, как перевод Нового Завета. Какова причина этой славянизации? Самым простым из возможных объяснений была бы ссылка на зависимость Жуковского от церковнославянского оригинала. Но это объяснение должно быть сразу отвергнуто – не только потому, что Жуковский, несмотря на свою известную декларацию («переводчик в прозе - есть раб; переводчик в стихах – соперник»), никогда не был рабом переводимых им прозаических сочинений, но и потому, что Елисаветинская Библия являлась хотя и главной, но далеко не единственной текстологической основой его перевода. Как мной уже было показано ранее [Долгушин, 2008б. С. 424–426], Жуковский учитывал и РБО, и французский перевод Нового Завета де Саси и особенно немецкий перевод Лютера, который он в 1844–1846 гг. ежедневно читал вместе с супругой и с которого первоначально и собирался переводить. В результате, у Жуковского встречаются довольно многочисленные отступления от церковнославянского текста, обусловленные влиянием данных переводов 9.
Так, вслед за переводами Нового Завета на новые языки Жуковский избегает некоторых неточностей Елисаветинской Библии. Мф. 11, 5 он переводит нищим благовеству-ется , а не нищии благовествуют , как в церковнославянском, а вслед за ним – и в Синодальном тексте. При переводе Ин. 8, 56 (« радовался, что увидит день Мой ») избегает вкравшегося в церковнославянский сослагательного наклонения. Перевод Жуковским таких стихов, как Мф. 5, 39; Мф. 5, 40; Мф. 7, 4; Мф. 10, 16; Мф. 12, 20; Мф. 13, 14;
Мф. 17, 18; Мк. 1, 31; Лк. 3, 14; Лк. 9, 52; Ин. 12, 27; Деян. 2, 20; Деян. 6, 9; Деян. 8, 33; 1Ин. 3, 21; 1Петр. 2, 25; Рим. 10, 17 и мн. др., обусловлен влиянием немецкого (лютеровского) перевода 10. Таким образом, очевидно, что текстологическая основа перевода Жуковского достаточно сложна, и, следовательно, стратегия его языкового поведения не может объясняться простым следованием Елисаветинской Библии.
На это же указывают и те отступления от церковнославянского текста, которые Жуковский делал не под воздействием переводов на новые языки, а самостоятельно. Мы уже видели, как поэт в иных случаях использовал вульгаризмы, до некоторой степени понижающие интонацию текста, но гораздо чаще он, напротив, стремился к повышению интонации. С этой целью Жуковский применял необычный прием – он, если можно так выразиться, славянизировал церковнославянский текст, т. е. вместо тех церковнославянских слов Елисаветинской Библии, которые казались ему низкими или нейтральными, употреблял в своем переводе тоже церковнославянские, но более возвышенные слова. Стилистически нейтральное седшу Ему Жуковский переводит: когда воссел (Мф. 5, 1); и ту седяше - и пребывалъ там (Ин. 6, 3); глагола им - возвестилъ им (Ин. 11, 11); толкнув же в ребра - коснулся он ребрам (Деян. 12, 7); слыши, Израилю - внемли, Израиль (Мк. 12, 29); седи одесную Мене - возседай одесную Меня (Мк. 12, 36), « оздание рук Твоих - создание перстов Твоих (Пс. 8, 4) и т. д. Все это подтверждает тезис о том, что славянизация была сознательным переводческим решением Жуковского, а не механическим воспроизведением лексем, грамматических и синтаксических конструкций Елисаветинской Библии.
Какова природа этой славянизации? Чем руководствовался Жуковский, избирая данную переводческую стратегию? В спорах вокруг русской Библии, шедших на протяжении почти всего XIX в., славянизация аргументировалась двояко. А. С. Шишков аргументировал ее лингвистически. С его точки зрения, церковнославянский был высоким стилем русского языка, и поэтому перевод Священного Писания на русский воспринимался как нелепость, как своего
10 Анализ этих случаев см.: [Долгушин, 2008а].
рода «литературная ересь» [Флоровский, 1991. С. 161]. Митрополит Филарет (Амфитеатров) аргументировал ее литургически (см.: [Чистович, 1997. С. 267–286]). С его точки зрения, церковнославянский был языком богослужения, и поэтому перевод Священного Писания на русский язык воспринимался как его десакрализация, как обособление Библии, а как следствие – и верующих, от литургической жизни Церкви. Обе эти системы аргументации соединил К. П. Победоносцев, считавший, что язык русской Библии должен быть максимально близок церковнославянскому – и по причине органической связи двух языков, и по причине литургичности Священного Писания. С этой точки зрения он критиковал Синодальный перевод, переводчики которого, по словам единомысленного Победоносцеву М. Н. Каткова, «казалось, стояли с обухом у двери, и как только показывалось в нее славянское слово, они тут же его и ухлопывали» [Соловьев, 1887. С. 362]. Перевод Жуковского Победоносцев считал близким к идеалу 11.
Однако сам Жуковский был мало включен в эти споры и эту проблематику. Лингвистические теории А. С. Шишкова были ему чужды, и поля экземпляра внимательно прочитанного поэтом «Рассуждения о старом и новом стиле российского языка» усеяны его полемическими замечаниями, адресованными адмиралу-«словенофилу» (см.: [Канунова, Янушкевич, 1978]). Литургическая мотивация также вряд ли могла увлекать Жуковского, по крайней мере никаких его высказываний на этот счет не сохранилось. Скорее всего, мотивировку его славянизированного стиля нужно искать не в логике общественной полемики вокруг русской Библии, а в логике развития его творчества.
Еще в молодости Жуковский вслед за Н. М. Карамзиным выступал против отождествления стихотворства и поэзии. Поэтическое слово, утверждал он, может быть и стихотворным, и прозаическим. Поэзия и проза не должны рассматриваться вне взаимной соотнесенности; проза возникает из лона поэзии как отталкивание и одновременно притяжение к ней [Айзикова, 2004.
-
С. 20–22] 12. В 1840-е гг. Жуковский стремится к сближению прозы и поэзии. В это время преобладающим размером у него становится безрифменный стих – гекзаметр, пятистопный или вольный белый ямб 13. Именно в этой поэтической технике Жуковский сделал и стихотворные переложения священных текстов – 17-й главы книги Премудрости Соломоновой («Египетская тьма»), Апокалиписиса, повести об Иосифе Прекрасном. В результате сформировался своеобразный стиль, своего рода пограничье между прозой и поэзией. Если сравнить, например, фрагмент из перевода Нового Завета со стихотворным переложением этого же отрывка, сделанным Жуковским для поэмы «Странствующий жид», то будет трудно даже различить, где проза, а где поэзия – настолько по своему размеру эти отрывки сближаются друг с другом:
«А дванадесять врат
Были дванадесят жемчужин:
Каждые врата
Из единой жемчужины, И стогны града
Чистое золото, Как стекло
Светлопрозрачное»
(Откр. 21, 21–22, перевод)
«Были
Двенадцать врат воздвигнуты из цельных Жемчужин каждыя; помосты улиц
Из золота, как чистое сияли Стекло»
(Откр. 21, 21–22, стихотворное переложение)
Перевод использует более высокую лексику, чем стихотворное переложение (стекло не чистое, как в переложении, а светлопрозрачное, что весьма повышает интонацию текста даже в сравнении с церковнославянским оригиналом, в котором читается: стекло пресветло; сохранен цер- ковнославянизм стогны, в стихотворном переложении замененный словом улицы). Такое явление объяснимо: ведь стихотворное переложение возвышено уже за счет самой своей стихотворности, а прозаический текст нуждается в лексических средствах возвышения. Таким образом, происходит сближение прозаической и поэтической стихий речи. Богословским коррелятом к этим стилистическим тенденциям творчества Жуковского является христианское благовестие о Боговоплощении. Поэзия – мир идеала, проза – мир жизни земной. Соединение земного и небесного происходит в Боговоплощении, а потому и речь о Богово-площении должна быть соединением поэзии и прозы – такова логика стилистических исканий Жуковского-библеиста.
Своеобразие перевода Жуковского, как видим, связано с оригинальностью стилистических решений, а не богословских интерпретаций. Но эти стилистические решения отражают и определенные религиознофилософские установки. В период «поэтической философии» второй половины 1810– 1820-х гг. Жуковский в своем творчестве исповедует принцип романтического двое-мирия, в соответствии с которым небесное несоединимо с земным – невоплотимо, невыразимо. Он любит повторять слова Руссо: «il n’y a de beau que ce que n’est pas – прекрасно только то, чего нет. Это не значит: только то, чего не существует, прекрасное существует, но его нет, ибо оно, так сказать, нам является единственно для того, чтобы исчезнуть, чтобы нам сказаться, оживить, обновить душу – но его ни удержать, ни разглядеть, ни постигнуть мы не можем» [Жуковский, 2003. С. 156]. В поэзии Жуковского в то время господствуют эстетика невыразимого, призрачность слова и образа, размывание их граней, неясность, нечеткость, колебание смыслов. Преобладающей является тенденция к превращению слова, по верному наблюдению Г. А. Гуковского [1965. С. 49], в эмоциональную ноту, в импрессионистический мазок, общая неопределенность хронотопа, так что определенным остается только общее ощущение движения, устремления то к прошлому, то к будущему, то в светлую манящую даль неба, то (как в «Лесном царе») в таинственные пугающие глубины леса, – это все средства, которыми навевается на душу невыразимое. Поскольку оно невыразимо, слово и образ должны стать максимально развоплощен-ными, невыразимое не выражается, но сквозит в них. Когда в 1840-е гг. Жуковский вступает в период «христианской философии» с ее учением о Боговоплощении, эстетика невыразимого становится неуместной. Начинается выработка того ориентированного на тождество слова и смысла, на соединение поэзии и прозы стиля, о котором шла речь выше.
Создание перевода Нового Завета стало важной вехой не только в жизненном и творческом пути Жуковского, но и в истории русской Библии. Сегодня вопрос о совершенствовании («поновлении») библейского перевода обсуждается все чаще. Е. М. Верещагин считает даже, что сейчас «наступает время общецерковной работы над православной русской Библией XXI в.» [2000. С. 215]. Сегодня уже вполне очевидно, что такое совершенствование невозможно без опоры на традицию церковнославянских и русских библейских переводов IX–XIX вв. Попытки переводить Библию «с чистого листа», как будто бы она перелагается на язык бесписьменного или младописьменного народа, всегда останутся не более чем экспериментами 14 в русской культуре. В результате них появляются тексты, хотя иногда и не лишенные интереса с научно-академической точки зрения, но обреченные на то, чтобы занимать маргинальное место и в культурном пространстве. По-настоящему фундаментальный, имеющий общенациональное значение для России 15 перевод Священного Писания может возникнуть лишь в лоне славяно-русской традиции.
Переводческое наследие Жуковского может быть большим подспорьем в такой работе. Ценность представляют не только конкретные переводческие решения Жуковского, но сама методология его труда. Как мы видели, поэт, следуя церковнославянскому тексту и даже намеренно славянизируя свой перевод, в то же время заимствовал многое и из известных ему западных переводов Нового Завета. Если учесть, что сего- дня задачей отечественной библеистики (в том числе и в поновлении Синодального перевода) является соединение верности славяно-русской традиции с усвоением лучших достижений западной библейской науки, опыт Жуковского не может не быть актуальным.
ON THE LANGUAGE AND STYLE OF BIBLICAL TRANSLATIONS
OF VASSILY ZHUKOVSKY