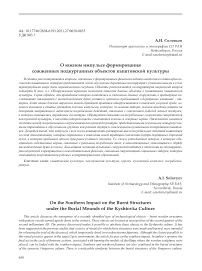О южном импульсе формирования сожженных подкурганных объектов кыштовской культуры
Автор: Соловьев А.И.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени
Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием феномена недавно выделенного типа археологических памятников, которые представляют собой обугленные деревянные конструкции с установленными в углах перевернутыми вверх дном керамическими сосудами. Объекты располагаются на территории некрополей второй четверти II тыс. н.э. Обнаруженная керамика позволяет отнести данные объекты к памятникам кыштовской культуры. Серия обрядов, для проведения которых возводились и сжигались данные сооружения, в предыдущих исследованиях связывается с высвобождением души усопшего, временно пребывавшей в деревянных изваяниях - иттерма. Хотя самые близкие параллели такой обрядовой практики обнаруживаются в таежной угорской среде, основное внимание в статье уделяется южным импульсам, которые, по мнению автора, оказали заметное влияние на декорации завершающего акта цикла погребальных действий, связанных с сожжением моделей жилых построек, в которые помещались деревянные скульптуры. Обращается внимание на погребальные сооружения синкретичной венгеровской культуры, в наследии которой также сочетаются южные и северные черты. Отмечается заметное сходство между погребальными сооружениями венгеровской культуры, представленными усеченными четырехугольными пирамидами и обугленными срубами или рамами внутри и сожженными культовыми постройками кыштовцев. Делается вывод, что импульсы с юга могли инициировать расширение цикла погребальных действий кыштовцев за счет заимствований, которые отразились в появления новой традиции сожжения внутри деревянных строений кукол, в которых пребывала одна из душ ранее усопшего человека. Т.е. своего рода двойных похорон, в которых объединились собственные нормы, связанные с реальным погребением тела, и заимствованные, относящиеся к обряду высвобождению души из куклы. Дальнейшая эволюция культовых сооружений видится в отделении их от территории некрополей и превращении в самостоятельный феномен, связанный сакрализацией социальных лидеров, которые становятся покровителями родовых и территориальных образований.
Кыштовская культура, венгеровская культура, курган, культовый комплекс, погребение, ритуал
Короткий адрес: https://sciup.org/145146090
IDR: 145146090 | УДК: 903.7 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0650-0655
Текст научной статьи О южном импульсе формирования сожженных подкурганных объектов кыштовской культуры
Открытый недавно феномен археологических памятников, представляющих собой деревянные конструкции с перевернутыми сосудами в углах, преданные огню и погребенные под насыпями курганного типа, выявленные на некрополях Сопка-2 и Усть-Изес-1, обозначенные как культовые комплексы, в настоящее время уже получил отражение в ряде работ. Проведены реконструкции сооружений, обозначены этнографические параллели, указывающие на вероятность их связи с обрядами «захоронения» иттерма – временного хранилища души усопшего. В настоящее время по материалам некрополя Сопка-2 подготовлена тематическая монография [Молодин, Ефремова, Соловьев, 2021]. Нашли свое отражение аналогичные находки из памятника Усть-Изеса-1 и на страницах данного периодического издания [Соловьев, 2020].
Градация таких сооружений насчитывает несколько типов, различающихся по сложности архитектуры внутренних построек и масштабу проведенных обрядов, которая варьирует от полноценных моделей срубных жилищ, до самых простых конструкций подобных коническому чуму или сезонным балаганчикам таежных промысловиков. Кругло- и остродонные сосуды обоих памятников обладают удивительным сходством и образуют культурно однородную серию, определяемую общностью орнаментальных композиций, характерной чертой которых являются ямки, соединенные в два горизонтальных пояска под венчиком и на тулове изделия. Эта устойчивая керамическая традиция носит культурно-диагностирующий характер и, прослеживаясь на материалах разновременных памятников II тыс. н.э., может быть связана с кыш-товской культурой [Молодин, Соловьев, 2019].
На связь культовых комплексов с погребальной обрядностью, помимо намеренной порчи вещей и расположения построек на территории некрополя, может указывать и количественное соответствие данных сооружений числу курганов с захоронениями. Взаимное сравнение этих объектов позволяет говорить об определенной корреляции между ними, определяемой соотношением трудовых и материальных затрат на строительство и проведение надлежащих ритуалов. Отметим, что размеры насыпи над одним из сожженных строений даже превосходят диаметр кургана самого богатого погребения могильника. На другом полюсе оказывается подростковое захоронение и соответствующий обрядовый комплекс, включающий лишь слабо читаемые следы прокаленной почвы, ямки и обожженные кости животных.
Генезис рассматриваемых объектов видится многоплановым, включающим в себя северные таежные и степные импульсы. В данном случае, нас интересуют в большей степени именно южные, тем более, что северные рассмотрены в упомянутой тематической монографии.
Обратим внимание на то, что сам сценарий обрядового использования сожженных построек, связываемый с обрядом проводов души, пребывавшей в специальных куклах-иттерма, по своему мифологическому содержанию сопоставим с обрядом погребения. Этот факт определяет направление поисков, которые приводят нас к любопытным сооружениям XI–XII вв., относимым к недавно выделенной венгеровской культуре [Савинов, 1988]. Они представляют собой окруженные ровиком довольно крутые земляные насыпи диаметром – от 1 до 20-ти и более м. Внешний вид их столь характерен, что культурная принадлежно сть уверенно определяется до раскопок. Курганный комплекс Венгерово-VII в одноименном районе НСО, исследование которого явило свету этот археологический феномен, с географической позиции является одной из северных точек ареала этой культуры на правобережье р. Оми. Основной же массив «венгеровских» могильников тянется вдоль левого берега этой реки и уходит на юг к степным просторам Казахстанского Прииртышья.
Под земляными насыпями таких сооружений обнаруживаются обожженные деревянные четырехугольные срубы или рамы. Срубы могли иметь от 2–3 до 7–8 венцов и достигать в момент постройки метровой высоты. Внутри отданных огню построек, на уровне древней поверхности располагались преимущественно одиночные погребения, ориентированные по линии запад – восток с небольшими отклонениями к северо- и юго-западу. Погребальная практика венгеровского населения включала трупоположение и трупосожжение. Д.Г. Савинов, рассматривая данный тип памятников, находит определенные параллели многим элементам его погребальной обрядности среди древностей томского Приобья, верхней Оби и павлодарского верхнего Приобья и видит в его материалах сложное переплетение местной и пришлой культурных традиций. Носителями первой, по его мнению, могли быть угорские (или угро-самодийские) племена, жившие лесостепной части Западной Сибири, вторую же, привнесенную, вероятнее всего, следует связывать с импульсами из соседних районов Восточного и Северного Казахстана, вызванных распадом кимако-кыпчакского государства [Савинов, 1988, с. 104, 107, 112].
Перед нами яркий культурный феномен, имеющий в своем активе курганный обряд погребения с использованием деревянных (явно имитирующих жилые) конструкций; огня, уничтожающего эти постройки, и в ряде случаев тела погребаемых; возведение насыпи по мере сгорания срубов; ровики вокруг последних. Д.Г Савинов, предлагая реконструкцию внешнего вида подобных сооружений, видел ее в форме четырехугольной усеченной пирамиды сложенной из кусков дерна [Там же, с. 104, рис. 52]. Аналогичное устройство дал и исследованный нами курган в одной из подобных групп таких памятников (Кошкуль-1). Отметим, что реконструкция внутрикурганной постройки, сожженной в ходе обряда на памятнике Усть-Изес-1, воспроизводившей модель жилой постройки, имела такую же форму усеченной четырехугольной пирамиды, обложенной дерном. В процессе горения стены рушились, а упавшая вместе с ними дерновая оболочка образовывала основу будущей насыпи [Соловьев, 2020]. Не исключено, что такая же картина могла наблюдаться на завершающем этапе погребального ритуала населения венгеровской культуры. Если абстрагироваться от собственно погребения, с позиции формы купола и внутреннего устройства, можно говорить об определенном сходстве сооружений венгеровской и кыштовской культур. Отметим, что в о сновании сожженного комплекса (№ 4) могильника Усть-Изес-1 читались следы неглубокой канавки-ровика.
Вполне вероятным представляется тесное знакомство на раннем садовкинском этапе кыштов-ского (в основе своей угорского) населения с погребальной практикой своих южных соседей (в чем-то родственных носителей венгеровской культуры, включающей сжигание деревянных срубов, близкую и понятную западную ориентацию) с последующим заимствованием основных обрядовых черт и адаптацией их к собственным воззрениям. В эпоху Средневековья, во время так называемой тюрки-652
зации, вызванной бурными событиями в глубинах Центральной Азии и юга Сибири и растянувшейся на несколько столетий, происходила не только прямая военная экспансия тюркоязычного населения на север со стремительными, но непродолжительными походами в чуждую степнякам природную среду, но и медленное поэтапное освоение ими по акваториям рек лесостепных и южно-таежных территорий, с неизбежными длительными процессами межкультурного взаимодействия, следствием которых была аккультурация – как собственная, так и аборигенных популяций, «усвоение ряда мифологических и эпических мотивов жителями тайги.... Здесь могли иметь место корректировка, восприятие типологически сходных или «ожидаемых» культурой-реципиентом мифологических сюжетов или обрядов» [Сагалаев, 1991, с. 9]. В мировоззренческой сфере целый ряд причин, включая естественное отсутствие посмертного опыта, делали культуры-реципиенты очень чувствительными к обрядовой практике более развитых в социальном и мифоритуальном плане соседей, что, однако, не означало полного забвения собственных традиций.
Итогом взаимодействия могли быть изменения в погребальной практике кыштовского населения, когда, скорее всего, на рубеже XII–XIII вв. был воспринят целый блок погребальной обрядности, который будучи транслированным в новую среду, стал служить важным дополнением и, если так можно выразиться, «завершающим штрихом» в проводах соплеменников в последний путь. Ведь сооружения носителей обеих культур имели сходный набор типологически значимых признаков. Основное же их отличие видится в том, что в одном случае внутри сжигаемых срубов помещались человеческие тела, а в другом символические их заместители. В результате «коррекции» получались как бы «двойные» похороны, когда вслед за телом некоторое время спустя, провожая в верхние сферы реинкарнирующуюся душу, стали погребать (в нашем случае – сжигать, что семантически равнозначно погребению) изваяния вместе с построенным для него домиком.
Что касается самой возможности заимствования, то для этого случая мы можем констатировать совпадение трех важнейших обстоятельств, переводящих его в ранг вероятности. Это факторы места, времени, моральной и материальной готовности реципиента. Возведение могильников венгеровской культуры, совпадающее с продвижением ее носителей на север, по шкале времени смыкается с нижней хронологической и территориальной рамками кыштовской культуры (садовкинский этап). Их границы в районах лесостепных участ- ков правобережья р. Оми, фактически совмещаются. Реальное расстояние между могильниками носителей этих культур не превышает нескольких киломертов. На раннем, садовкинском, этапе становления кыштовского культурного феномена, занимавшего «буферное» положение на стыке тюркского и угорского миров, испытывавшего уже тогда мощное влияние с юга [Молодин, 1990, с. 138], на площади погребальных памятников (Садовка-2) сожженных культовых сооружений не обнаружено. Зато в погребальной практике использовались жерди, составлявшие четырехугольную внутримо-гильную конструкцию вокруг помещенного здесь тела и поставленного вверх дном сосуда
По справедливому замечанию В.М. Массона, «инновации стереотипизируются, а затем интегрируются в культурную систему только в том случае, если сами они воспринимаются социальной средой и не происходит процесса отторжения» [1981]. Иными словами, инновация воспринимается и становится традицией только тогда, когда общество понимает ее, а так же имеет моральные предпосылки и материальные возможности к воспроизведению последней. Как представляется, материалы садовкинского этапа содержат определенные указания на определенное созвучие идей, реализовавшихся в обрядах погребального цикла, которое могло способствовать трансляции в культурную систему близких и понятных «нововведений».
Носители кыштовской культуры уже имели в активе своего культурного потенциала элементы погребальной практики (внутримогильные четырехугольные деревянные сооружения, перевернутые в углу вверх дном сосуды), которые в дальнейшем сместились в актив феномена сожженных культовых мест. Однако, все эти изменения должны было сопровождаться определенной трансформацией воззрений, объяснявшей необходимость и смысл проводимого сакрального акта. Для таежных культур, с учетом свойственной им консервативности и вялотекущего развития, такой решительный шаг без долгих промежуточных колебаний представляется сродни революционному. И, на наш взгляд, в обстановке тех лет, отличавшихся разнообразием и известной парадоксальностью межкультурных взаимодействий, без толчка извне самостоятельно сделанным он быть не мог.
Можно, конечно, возразить, что следы формирования рассматриваемого явления следует искать не на кладбищах, а где-то в стороне – в глубинах тайги, в тайных заповедных местах, что это самостоятельный феномен, связанный не с погребальной практикой, а с культом предков, и размещение сожженных и засыпанных землей балаганчиков с идолами на территории древних могильников но- сит случайный, узко локальный характер. Но, во-первых, наличие серии таких сооружений на территории двух синхронных могильников позволяет говорить скорее о закономерности, чем о случайности и свидетельствует об устойчивой системе в размещении особых «культовых» площадок на территории кладбищ предтаежного Обь-Иртышья. Во-вторых, «культовые» места возводились одновременно с захоронениями, точнее, по мере их совершения. С точки зрения доступной нам хронологии – синхронно.
Правда, с течением лет картина меняется. Уже через 100–150 лет, судя по археологическим материалам, места совершения рассматриваемого ритуала, в основном, смещаются за пределы могильников и располагаются где-нибудь поблизости. Во всяком случае, на территории более поздних памятников кыштовской культуры (конца XIV – XV в.) таких мест обнаруживается по одному (Ту-руновка-2, Кыштовка-1), а на памятниках XVII– XVIII вв. (Кыштовка-2, Льнозавод-4) их уже нет вовсе. Впрочем, неподалеку от могильника Льнозавод-4 расположено скопление небольших эллипсовидных, похожих на курганы этого памятника насыпей, под которыми скрывались прокалы и вкрапления небольших углей. На периферии двух из них стояли вверх дном сосуды – в одном случае пара керамических горшков с пробитым дном, в другом смятый позднесредневековый бронзовый котел, напоминающий таз. Данное обстоятельство дает нам основание рассматривать эти и окружающие их сооружения (с углями и про-калами) как культовые места, относящиеся скорее всего к могильнику.
Аналогичные небольшие всхолмления, не содержащие могил и археологического материала, но со следами прокала, углей, а иногда и пустых ям, нередко в виде отдельных сооружений встречаются на северных, предтаежных окраинах лесостепной Барабы (Кама-9, Сибирцево-5, Кошкуль-4, Льнозавод-4). По причине почти полного отсутствия находок и смысловой неясности, они обычно воспринимаются как одиночные курганы-кенотафы или даже как объекты естественного происхождения. И не рассматриваются в контексте близлежащих памятников. Как представляется, такие «псевдокурганы» справедливо будет трактовать как остатки культовых мест, связанных с обрядами проводов души, проведение которых в этнографическое время стало тяготеть к участкам в стороне от кладбищ – ближе к окраинам сел. И действительно, если мы проанализируем вышеприведенные описания таких обрядов с точки зрения материальных следов, которые могли оставаться после их совершения, то, пожалуй, придем к выводу, что иных находок кро- ме следов прокала, углей, полусгоревших чурочек и, возможно, фрагментов ко стей под небольшим холмиком не обнаружим.
С нынешних позиций говорить о связях ритуальных построек на территории некрополей Усть-Изес-1, Сопка-2 и таежных святилищ следует, скорее всего, исходя из принципа обратного старшинства. Т.е. считать погребальные «культовые» места предтечей «храмовых», культовых мест на лесных полянах. Не вдаваясь в проблемы генезиса последних, обратим внимание лишь на некоторые аспекты, которые, будучи связанными с археологическими материалами, могут быть интересны для данной темы.
Всплески строительства культовых сооружений, которое, кстати, никогда не прекращалось, в целом совпадают с пиками социальной активности – сложения военно-потестарных организаций, возвышения военных предводителей и ростом их влияния. Все эти события, как правило, приходятся на периоды военной экспансии на север и социальной напряженности. Ход истории указывает на такие процессы в рассматриваемое время как в глубинах тайги, так, особенно, и в предтаежье, где нарастающая угроза с юга ощущалась в первую очередь. Возвышение предводителей – территориального ли ранга или уровня родового вождя – сопровождалось усилением связей с духами-предками, приобретающими статус особо почитаемых божеств – покровителей селения, лидирующего рода или даже территориальных объединений, для которых устраиваются особые культовые места храмового типа. Культ духа-предка и покровителя оказывается в фокусе мифологического мышления. Эта линия развития верований была одной из наиболее значимых и в эпоху Средневековья.
Обратившись к структурно-составляющим элементам сокровенных «храмовых» мест, нетрудно заметить четырехугольные деревянные сооружения – амбарчики, приношения-приклады, посуду, оставленную на земле, специальные места для разведения огня и, наконец, укутанные в различные ткани, порой снабженные металлическим подвесками, деревянные изваяния духов-предков. Если отбросить не сохраняющуюся органику, то основная доля этих предметов в том же сочетании уже знакома нам по находкам на культовых местах, расположенных на некрополях. Может даже создаться впечатление, что это именно последние перенесены в глубины тайги. Фактически, так, наверное, могло и быть в те времена, когда возникла потребность в новых формах идеологической общности, актуализировавших роль духов богатырей-предков. А их посмертные изображения, в которые по логике мифологического мышления, вселялись души неког-654
да важных членов социума, обладавших особыми возможностями и прерогативами в мире живых и сохранивших свои связи в иных измерениях, приобретали социально-важное сакральное значение.
В самом общем виде можно считать, что в этом случае мы имеем дело со своего рода метаморфозой иттерма, получившей статус общественно-важных фетишей, существование которых в этом мире продлевалось жизнью рода. По наблюдениям Г.И. Пелих, «изображение (парге) покойного родича», размещенное на таких лесных культовых местах «считалось «живым» до тех пор, пока был жив кто-то из его потомков» [1981, с. 96]. Аналогичные сведения приводит и З.П. Соколова [1971, с. 237]. Отсюда до превращения таких фигурок в изображение автономно живущего духа-предка, покровителя рода один шаг. Размытыми следами, отмечающими пути возникновения такого феномена, могут служить неоднократно упомянутый обычай уносить подобные фетиши в таежную глухомань и, наконец, смысловая инверсия – стремление, отмеченное, в частности К.Ф. Карьялайненом у угров, устраивать культовые места на старых кладбищах – ближе к историческим очагам своего возникновения. Все сказанное говорит о сложности процесса, переплетении явлений общественного и духовного плана и допускает возможность трансформации одного типа памятника в другой в пределах сакральных границ кладбища. Но не свидетельствует однозначно о том, что «храмовые» культовые места с амбарчиками возникли именно в эпоху развитого Средневековья и именно на могильниках. Вероятно, следует говорить о расщеплении традиций, во многом стимулированном внешними импульсами. Возможно, истоки феномена уходят в глубь времен и сливаются в бездне едва обозримого прошлого и само возникновение священных амбарчиков имеет боле раннюю хронологию.
Список литературы О южном импульсе формирования сожженных подкурганных объектов кыштовской культуры
- Массон В.М. Традиции и инновации в процессе культурогенеза (в свете данных археологии. // Преемственность и инновации в развитии древних культур. - Л.: Наука, 1981. - С. 39.
- Молодин В.И. Культовые памятники угорского населения лесотепного Обь-Иртышья (по данным археологии) // Мировоззрение финно-угорских народов. - Новосибирск: Наука, 1990. - С. 128-140.
- Молодин В.И., Ефремова Н.С., Соловьев А.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. Ритуальные комплексы эпохи средневековья. - Новосибирск, Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. - Том 6. (В печати)
- Молодин В.И. Соловьев А.И. Кыштовская культура // История Сибири. Железный век и Средневековье. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. -Т. 2. - С. 382-384.
- Пелих Г.И. Селькупы XVII в. Очерки социально-экономической истории. - Новосибирск: Наука, 1981. -175 с.
- Савинов Д.Г. Новый тип памятников начала II тыс. н.э. в Барабинской лесостепи. // Бараба в тюркское время. - Новосибирск: Наука, 1988. - С. 91-115.
- Сагалаев А.М. Урало-алтайская мифология. Символ и архетип. -Новосибирск: Наука, 1991. - 156 с.
- Соколова З.П. Пережитки религиозных верований у обских угров // Религиозные представления и обряды народов Сибири в XIX - начале XX века. - Л.: Наука,1971. - С. 211-238 (СМАЭ XXVII).
- Соловьев А.И. Культовые места Усть-Изеса. Вопросы реконструкции // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. XXVI. -С. 611-619.