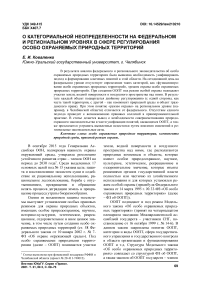О категориальной неопределенности на федеральном и региональном уровнях в сфере регулирования особо охраняемых природных территорий
Автор: Коваленко Екатерина Игоревна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Статья в выпуске: 2 т.21, 2021 года.
Бесплатный доступ
В результате анализа федерального и регионального законодательства об особо охраняемых природных территориях была выявлена необходимость унифицировать подход в формировании ключевых понятий в этой области. На сегодняшний день на федеральном уровне отсутствует определение таких категорий, как «функционирование особо охраняемых природных территорий», «режим охраны особо охраняемых природных территорий». При создании ООПТ под режим особой охраны подпадают участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними. В результате каждый объект подвергается двойному регулированию (с одной стороны, как часть такой территории, с другой - как компонент природной среды и объект гражданского права). При этом понятие «режим охраны» на региональном уровне (например, в Челябинской области) отличается от федерального. Отсутствие единого подхода приводит к возникновению правовых коллизий в правоприменительной практике. В статье делается вывод о необходимости совершенствования природоохранного законодательства в части унификации понятий, касающихся ООПТ, а также предлагается устранить выявленные недостатки путем внесения изменений в региональные законодательные акты.
Особо охраняемые природные территории, компоненты природной среды, правовой режим охраны
Короткий адрес: https://sciup.org/147231577
IDR: 147231577 | УДК: 349.415 | DOI: 10.14529/law210210
Текст научной статьи О категориальной неопределенности на федеральном и региональном уровнях в сфере регулирования особо охраняемых природных территорий
В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН, подчеркнув важность охраны окружающей среды, утвердила резолюцию устойчивого развития стран – членов ООН на период до 2030 года1. Среди выделенных 17 основных целей под № 15 указана цель: защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.
Одним из механизмов защиты экосистемы выступает установление особых правовых режимов для охраны природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, в том числе путем создания особо охраняемых природных территорий (ст. 58 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). Под особо охраняемыми природными территориями (далее – ООПТ) понимаются участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны (преамбула Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее – ФЗ об ООПТ)).
ООПТ подпадают и под режим Модельного закона «Об особо охраняемых природных территориях» (принят на четырнадцатом пленарном заседании Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ, постановление от 16 октября 1999 г. № 14-6). В данном законе закреплены понятие ООПТ, категории и виды ООПТ, сфера государственного управления и государственного контроля в области организации и функционирования ООПТ и т.д. Структура Модельного закона «Об особо охраняемых природных территориях» совпадает со структурой ФЗ об ООПТ, а также законов об ООПТ государств – членов
СНГ (Закон Кыргызской Республики от 3 мая 2011 г. № 18 «Об особо охраняемых природных территориях», Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 г. № 175-III «Об особо охраняемых природных территориях»). Выгодно в данном ряду отличается Закон Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях», в котором более детализирован подход к вопросам создания ООПТ и определения их режима.
Имея общие черты, российское законодательство об ООПТ отличается от других стран – участников СНГ. Во-первых, это связано с федеративным устройством. Согласно п. 1 ст. 72 Конституции РФ вопросы правового режима ООПТ отнесены к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Во-вторых, географические особенности территории РФ оказывают значительное влияние на количество и виды ООПТ.
Экологическая доктрина Российской Федерации 2002 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р) к одному из основных направлений государственной политики в сфере экологии относит создание и развитие ООПТ разного уровня и режима, формирование на их основе, а также на основе других территорий с преобладанием естественных процессов природнозаповедного фонда России в качестве неотъемлемого компонента развития регионов и страны в целом, сохранение уникальных природных комплексов. По данным на март 2021 года, на территории России создано 20 120 ООПТ, из них 500 федерального значения, 16 551 ООПТ регионального значения, 3 069 ООПТ местного значения. Для сравнения –только на территории Челябинской области находится 153 ООПТ [5], которые относятся к разным категориям.
При установлении ООПТ под режим особой охраны попадают участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, которые располагаются в границах ООПТ. В результате каждый объект подвергается двойному регулированию: с одной стороны, как часть ООПТ, с другой, – как компонент природной среды. И здесь мы можем наблюдать различные коллизии. Так, в п. 2 ст. 58 Федерального закона от 19 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – ФЗ об ООС) указано, что порядок создания и функционирования ООПТ ре- гулируется законодательством об ООПТ. В словаре под функционированием понимается «действовать, быть в действии, работать» [4]. Иными словами, порядок функционирования ООПТ должен подразумевать порядок работы или действия ООПТ. Такой подход можно, например, наблюдать в Законе Кыргызской Республики об ООПТ, в котором это решается через функциональное зонирование (то есть установление определенных зон, предусматривающее запрещение и (или) ограничение в пределах этих зон любой деятельности, отрицательно влияющей на состояние и восстановление экологических систем ООПТ и находящихся на них объектов государственного природно-заповедного фонда). В российских нормативных актах об ООПТ такой подход отсутствует.
Преамбула ФЗ об ООПТ декларирует, что закон регулирует отношения в области организации, охраны и использования ООПТ. Вместе с тем ст. 1 этого же закона определяет, что отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными и иными природными ресурсами, имущественные отношения в области использования и охраны ООПТ регулируются соответствующим законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, включая гражданское законодательство. Данные положения закона позволяют прийти к выводу о том, что отношения в области организации, охраны и использования ООПТ подпадают под воздействие также природоресурсного, гражданского и другого законодательства. Однако п. 9 ст. 2 ФЗ об ООПТ предусматривает, что органы местного самоуправления решают вопросы использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов ООПТ, расположенных в границах населенных пунктов поселения, городского округа, в соответствии с положениями о соответствующих ООПТ.
Более того, ст. 66 Водного кодекса РФ прямо предусматривает, что статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены особо охраняемые водные объекты, устанавливаются в соответствии с законодательством об ООПТ и законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия. А вот гл. XVII Земельного кодекса РФ, наоборот, предусматривает регулирование всех вопросов, связанных с реализацией режима земель особо охраняемых территорий, без обращения к любому иному законодательству.
Таким образом, мы видим полнейшую неопределенность в правовом регулировании отношений, возникающих по поводу ООПТ.
Еще одним противоречием выступает подход к определению правового режима охраны ООПТ. Системное толкование ст. 59 ФЗ об ООС дает нам возможность предположить, что правовой режим охраны природных объектов устанавливается законодательством в области охраны окружающей среды и состоит в запрете хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению объектов, находящихся под особой охраной. Следовательно, любую деятельность, которую осуществляют на территории ООПТ, необходимо одновременно оценивать исходя из двух критериев: оказание негативного воздействия и приведение к деградации и/или уничтожению объекта. Этот же подход сохраняется при определении режима охраны конкретного вида ООПТ (например, п. 1 ст. 12 ФЗ об ООПТ указывает, что в границах национальных парков выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется в естественном состоянии и запрещается осуществление любой не предусмотренной законом деятельности, и зоны, в которых ограничивается экономическая и иная деятельность в целях сохранения объектов природного и культурного наследия и их использования в рекреационных целях).
Несмотря на сказанное, п. 14 ст. 2 ФЗ об ООПТ, напротив, закрепляет «виды разрешенного использования земельных участков», расположенных в границах ООПТ, которые в свою очередь определяются положением об ООПТ. Иными словами, мы видим, что в одном случае законодатель исходит из критериев запрещенных видов деятельности в границах ООПТ, а в другом – в отношении конкретного объекта прибегает к позитивному регулированию, путем перечисления конкретных видов разрешенного использования.
В литературе отмечается, что сложившаяся в 30-е гг. XX века концепция заповедной охраны уникальных природных комплексов уже перестала быть эффективной. Вместо того, чтобы внутри одного вида ООПТ устанавливать различные режимы (либо изъятия из режима), следует разделить наиболее крупные территории заповедников, придав их остальной части новый правовой статус [1, c. 394–
-
396] . Например, в состав Оренбургского государственного заповедника, который состоит из пяти изолированных участков, не включаются населенные пункты, дороги, реки, а также территории вокруг деревень [3, c. 222]. Полагаем, что такой подход мог бы положительно сказаться на качестве управления ООПТ.
В Законе Челябинской области от 25 апреля 2002 г. №81-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области» (далее – Закон ЧО об ООПТ) использован иной подход. В соответствии со ст. 1 указанного закона режим особой охраны особо охраняемой природной территории представляет собой перечень запрещенных (ограниченных) и допустимых видов хозяйственной и иной деятельности в границах ООПТ. Данное понятие вызывает замечания. Во-первых, в самом термине представляется излишним использование слова «особой» применительно к охране, так как не видим смысла дважды подчеркивать статус ООПТ. Во-вторых, режим особой охраны не должен сводиться только к перечислению запрещенных и разрешенных видов деятельности, поскольку это сужает возможности для регулирования: либо перечень должен быть исчерпывающим, либо необходимы четко определенные критерии запрещенных или ограниченных видов деятельности.
В положениях об ООПТ на территории Челябинской области данный региональный подход находит свое развитие. Так, в Постановлении Правительства Челябинской области от 15 февраля 2007 г. № 26-П «О Харлу-шевском государственном природном заказнике Челябинской области» перечислены 18 запрещенных видов деятельности и три условно-разрешенных (их осуществление возможно при участии областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и по согласованию с Министерством экологии Челябинской области). При этом все перечни являются закрытыми, но в случае необходимости Правительство Челябинской области по представлению Министерства экологии Челябинской области может вводить и другие постоянные или временные ограничения (в том числе в определенное время года), направленные на улучшение условий обитания охраняемых объектов животного и растительного мира, их сохранение и восстановление. Полу- чается, что введение дополнительных ограничений никак не связано с критериями, которые закреплены в ст. 59 ФЗ об ООС. Полагаем, что подобный подход вносит правовую неопределенность для субъектов экологических отношений.
Приведем еще один пример несовершенства регионального законодательства. В ст. 5 Закона Челябинской области об ООПТ перечислены сведения, которые должны содержаться в положении об ООПТ. Среди них хотим обратить внимание на следующие сведения: 1) режим особой охраны ООПТ; 2) режим использования земельных участков, предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам; 3) основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границе ООПТ; 4) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границе ООПТ (если такие виды предусмотрены); 5) допустимые виды использования ООПТ. Если исходить из системного толкования Закона Челябинской области об ООПТ, то уже в рамках первого пункта должны быть указаны все сведения, которые позволили бы сделать исчерпывающий вывод о запрещенных и разрешенных видах деятельности. Тем не менее данные сведения должны быть продублированы и в других разделах положения. Также вызывает некоторое недоумение выделение только одного объекта – земельных участков. Полагаем, что все это вызвано неточностью формулировки термина «режим особой охраны особо охраняемой природной территории».
Подобные коллизии отражаются и на правоприменительной деятельности. Так, в апелляционном определении по делу № 66а-136/2021 от 2 февраля 2021 г. судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции указала, что изменение границ ООПТ – памятника природы «Челябинский (городской) бор» является изменением режима особой охраны. Иными словами, вместо исследования вопроса о том, относятся ли к режиму охраны ООПТ установление и изменение границ этих территорий, суд утверждает это как факт. Подобный подход противоречит действующему законодательству, поскольку федеральное и региональное законодательство определяют режим охраны путем перечисления видов (или критериев) разрешенной либо запрещенной деятельности на уже сформированной территории ООПТ.
В юридической литературе уже обращалось внимание на проблемы унификации определений в экологическом праве [2]. Как было отмечено, отсутствие единообразия в ключевых понятиях экологического права на федеральном и региональном уровнях создает сложности в правоприменительной практике. Ясное и четкое регулирование вопросов, связанных с установлением режима охраны и функционированием ООПТ, должно быть одним из приоритетных при совершенствовании природоохранного законодательства. Сложившиеся на федеральном уровне пробелы могут быть в полной мере решены за счет законов субъектов Российской Федерации. Например, в Закон Челябинской области об ООПТ можно внести изменения в термин «режим особой охраны особо охраняемой природной территории», а также уточнить его содержание с учетом требований ФЗ об ООС. Такой подход не приведет к возникновению противоречий между федеральным и региональным законодательством, наоборот, создаст детальное регулирование режима охраны ООПТ, которое будет ориентировано на специфику региона.
Список литературы О категориальной неопределенности на федеральном и региональном уровнях в сфере регулирования особо охраняемых природных территорий
- Анисимов, А. П. Актуальные проблемы теории экологического права: монография / А. П. Анисимов, Е. Н. Абанина, А. П. Алексеева. - М.: Юрлитинформ, 2019. - 520 с.
- Игнатьева, И. А. Проблемы создания и унификации определений правовых понятий, обозначающих природные объекты / И. А. Игнатьева // Российский юридический журнал. - 2020. - № 2. - С. 177-187.
- Анисимов, А. П. Современные проблемы теории экологического права: монография / А. П. Анисимов, А. П. Алексеева, В. А. Волколупова. - М.: Юрлитинформ, 2019. - 512 с.
- Ушаков, Д. Н. Толковый словарь русского языка / Д. Н. Ушаков. - М., 1940. URL: http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/21/us4b 2314.htm?.
- Информационно-аналитическая система "Особо охраняемые природные территории России". URL: http://oopt.aari. ru/ filter/reset.