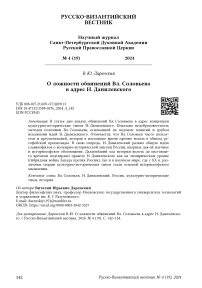О ложности обвинений Вл. Соловьева в адрес Н. Данилевского
Автор: Даренский В.Ю.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 4 (19), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье дан анализ обвинений Вл. Соловьева в адрес концепции культурно-исторических типов Н. Данилевского. Показана недобросовестность методов полемики Вл. Соловьева, основанной на подмене понятий и грубом искажении идей Н. Данилевского. Отмечается, что Вл. Соловьев часто пользуется и аргументацией, которая в настоящее время прочно вошла в обиход русофобской пропаганды. В свою очередь, Н. Данилевский развил общую идею славянофилов о всемирно-исторической миссии России, впервые дав ей научное и историософское обоснование. Дальнейший ход истории вплоть до настоящего времени подтвердил правоту Н. Данилевского как на эмпирическом уровне (гибридная война Запада против России), так и в научном мире, где с ХХ в. различные теории культурно-исторических типов стали основой историософского мышления.
Вл. соловьев, н. данилевский, Россия, культурно-исторические типы, история
Короткий адрес: https://sciup.org/140308444
IDR: 140308444 | УДК: 008-027.21(470+571)(091):1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_4_142
Текст научной статьи О ложности обвинений Вл. Соловьева в адрес Н. Данилевского
Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить.
Мф 10:34
Чрезвычайно горячие выходки Вл. С. Соловьева совершенно слабы и бессодержательны в отношении главного вопроса — теории культурноисторических типов.
Н. Н. Страхов
Наследие В. Соловьева имеет важнейшее значение для возрождения русской философии, которое началось в 1990-х гг.: по тематике и стилю его текстов он стал
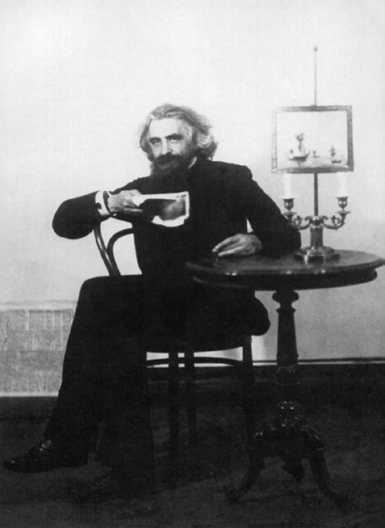
Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900)
просветителем нашего времени, ярко разъясняя главные христианские истины на уровне целостного философского мировоззрения. Именно в роли христианского просветителя его значение трудно переоценить (такую же роль он во многом сыграл и для культуры Серебряного века). Но на уровне оригинального философского творчества В. Соловьев, наряду с некоторыми ценными концепциями (критики отвлеченных начал, смысла любви и др.), является также автором идей, имеющих еретический (так называемое «объединение церквей») и даже кощунственный характер (определение «русской идеи» как реализации «образа Божественной Троицы» на земле, что есть прямое опошление догмата о Пресвятой Троице). В. Соловьев дал ценные идеи в сфере «чистой философии», но в вопросах истории, политики и богословия он, к сожалению, часто мыслил не как православный философ, а как светский интеллигент — поклонник Запада, внутренне презирающий Россию.
В этом отношении В. Соловьев был характерным примером «розового христи- анства» — т. е. христианина, сохраняющего многие стереотипы светского сознания, несовместимого с христианством. Это приводило к подмене содержания христианских понятий их секулярными «двойниками». Как и Достоевский, В. Соловьев исповедовал хилиастическую ересь создания «идеального общества» (что a priori невозможно в силу поврежденности человека Первородным грехом). Идея «объединения церквей» также является пережитком секулярного мышления и ересью, поскольку противоречит Символу веры, в котором исповедуется существование Единой Церкви. Но в отличие от Достоевского, В. Соловьев все-таки задумывался о конце истории — катастрофе отступления человечества от Христа и приходе Антихриста. Будущего Антихриста он понимал как внутреннее порождение бывшей христианской культуры Запада, что согласно с пророчествами святых.
Полемика В. Соловьева с концепцией Н. Данилевского, к сожалению, также является примером наивности «розового христианства», а также и просто научной недобросовестности, иногда доходящей до прямой лжи. Кроме того, в ней выразилось и русофобское настроение В. Соловьева. Так, Н. Сомин справедливо отмечал: «Все аргументы Соловьева по сути дела сводятся к одной мысли: национализм — это не христианская идея — „Во Христе нет ни эллина, ни иудея“. И потому, если Россия считает себя христианской и мечтает воплотить в себе подлинное христианство, она должна отказаться от своего национализма, пожертвовать своими национальными интересами ради объединения всего человечества. Однако эта абстрактно верная позиция оказывается в условиях падшего мира неприемлемой. Да, христианство преодолевает национализм. Но — только подлинное христианство. Если же в мире <…> царит жестокая борьба за выживание, то жертва может обернуться сдачей на милость победителя, который милости-то как раз и не проявит <…>. Вот и Россию отдавать на съедение западному постхристианскому тигру мы не имеем права»1.
Однако на самом деле теория культурно-исторических типов Н. Данилевского не имеет ничего общего с национализмом — поэтому в своей «критике» В. Соловьев делает лукавую подмену понятий. Такую же лукавую подмену понятий он делает, и трактуя слова апостола: «Во Христе нет ни эллина, ни иудея» (Кол 3:10). Здесь явно речь идет о Церкви, а не об историческом процессе, в котором не только остаются разные народы, но и, более того, христианство часто обостряет борьбу между ними, поэтому сам Христос сказал: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить» (Мф 10:34). Поэтому среди православных святых есть такой большой сонм воинов, сражавшихся на поле боя и убивавших врагов Христа и своего земного Отечества, которое было православным и служило Христу. Впрочем, и сам В. Соловьев затем признал, что «по общему взгляду Данилевского, историческое значение национальности вполне подчинено значению культурного типа, вне которого народ может оставаться на степени простого этнографического материала. Противуполо-жение Европы и России также получает определенный смысл лишь на основании теории культурно-исторических типов»2.
С другой стороны, как отмечает Ф. И. Синельников, есть и «момент гораздо более существенный: а действительно ли Соловьев критикует Данилевского с универсалистских позиций? На самом деле если мы посмотрим на Соловьева и его модели мироустройства, мы просто увидим, что Соловьев предлагает другой утопический проект: идею соединения церквей во главе с римским папой <…>. Для Соловьева универсальность — это включенность России в европейское сообщество государств <…>. Т. е. критика Соловьева предельно идеологична»3. Кроме того, В. Соловьев часто опускался и до откровенных подтасовок: «нужно отметить, мягко говоря, некорректность критики Соловьева некоторых моментов в наследии Данилевского, прежде всего обвинение в том, что Данилевский заимствовал свои идеи у Рюккерта… Данилевский с наследием Рюккерта вообще знаком не был. И когда Страхов показывает, как Соловьев ведет полемику с Данилевским, вставляя в текст Рюккерта фрагменты, которых у него просто нет, у меня возникает, я бы так сказал, неловкое чувство»4. После статьи В. Соловьева «Мнимая борьба с Западом» Л. Н. Толстой уговаривал Страхова: «не отвечайте Соловьеву <…>. По тону видно, что он не прав»; а К. Н. Леонтьев, который высоко ценил некоторые работы В. Соловьева, сообщил И. И. Фуделю в письме от 24 января 1891 г., что он «ужасно недоволен им за последние три года <…> с тех пор, как он вдался в эту ожесточенную и часто действительно недобросовестную полемику против славянофильства. Недоволен
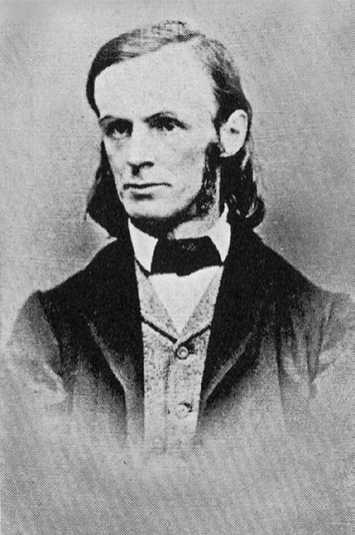
Генрих Рюккерт (1823–1875)
самым направлением, недоволен злорадным и ядовитым тоном, несомненной наглостью подтасовок»5.
Почему так произошло? К сожалению, В. Соловьев чаще всего вел полемику не в христианском благожелательном духе, а с откровенной злобой к своим оппонентам, труды которых он презрительно называл «чревовещаниями новейших „патриотов“»6. В совершенно издевательском и хамском стиле написана, например, заметка против В. В. Розанова — «Порфирий Головлев о свободе и вере». В качестве «аргументации» в ней, как и везде, В. Соловьев пользуется «методом» подмены понятий, истолковывая высказывания В. В. Розанова совсем не в том смысле и контексте, которые были у автора, а в своем собственном, удобном для того, чтобы подвергать чужой текст высмеиванию и издевкам. В. Соловьев вообще любил вести полемику — и всегда она была основана на таком «методе». Отношение к чужим идеям у В. Соловьева было крайне нетерпимым, он мыслил совершенно авторитарно, по принципу «есть две точки зрения: моя и неправильная». Для того времени это был очень редкий случай, т. к. тогда еще было принято полемизировать очень благодушно и даже в противоположных взглядах искать позитивное зерно. По своему принципу и стилю полемика В. Соловьева очень похожа на советский метод «разоблачений» идеологических врагов и «проработок» тех, кто уклонился от «генеральной линии». Инициатором полемики всегда был сам В. Соловьев, яростно нападая на те идеи, которые он считал опасными конкурентами его собственным.
Стоит отметить, что такой тон В. Соловьева провоцировал иногда и ответную критику такого же рода, в частности, со стороны историка В. О. Ключевского. В своем дневнике В. О. Ключевский описал свои впечатления от доклада В. Соловьева «Об упадке средневекового миросозерцания», на котором он присутствовал: «Наружность протрезвившегося Любима Торцова с отросшими волосами <…>. Что-то пошлое, дурацкое, словно дуралей озорной ворвался в рабочую комнату, где делали свое дело, все перепутал, напакостил и убежал»7. Это касается внешнего впечатления. А вот критика по существу обсуждаемой темы доклада: «В средневековом миросозерцании признавался Христос без христианства; в соловьевском новейшем — истинное христианство торжествует без Христа, созидаемое неверующими. Навязывает христианские основы социализму. Наполовину припадок неясной и воспаленной мысли, наполовину риторическая игра словами <…> новых язычников жалует в христианство. Детские практические упражнения на катехизисные темы»8. В. О. Ключевский иронически шутит по этому поводу: «Атеисты всемилостивейше пожалованы в действительные статские христиане. Хочет спасать гуртом, а не поодиночке, как доселе»9. На самом же деле, напоминает В. О. Ключевский, «христианство дано было не как готовый общественный порядок, тогда оно было бы нелепой затеей, а как идеал личной жизни, который, единица за единицей перерабатывая людей, тем улучшает общежитие всякого политического склада»10.
В. О. Ключевский, сам бывший выпускник семинарии, на элементарных примерах показывает, в чем мышление В. Соловьева является совершенно не христианским, а светским и утопическим — в отношении к истории вообще, и к социализму в частности. И такое отклонение от христианского мышления у В. Соловьева вполне закономерно. Хотя он, естественно, был крещен в Православии, однако в зрелые годы стал человеком совершенно нецерковным как по своему образу жизни (пьянство, от которого он и умер), так и по той новой «религии», которую он придумал для себя и реально исповедовал. В письме В. В. Розанову в начале 1890-х гг. он признавался: «Я <…> далек от ограниченности латинской, как и от ограниченности византийской, или аугсбургской, или женевской. Исповедуемая мною религия Св. Духа шире и вместе с тем содержательнее всех остальных религий: она не есть ни сумма, ни экстракт из них, как целый человек не есть ни сумма, ни экстракт своих отдельных ор-ганов»11. Как видим, теперь для В. Соловьева Православие — это не более чем «византийская ограниченность», и он считает себя «возвысившимся» над ним, исповедуя придуманную им «религию Св. Духа», т. е. новую гностическую ересь.
Очевидно, что В. Соловьев пребывал в прелести вследствие своей непомерной гордыни. Эта гордыня особенно ярко выражена, например, в его письме редактору «Вестника Европы» M. M. Стасюлевичу от 20 сентября 1891 г.: «В настоящее время я изнемогаю под тяжестью усилий образовать из нашего хаоса, или просто слякоти, хотя бы микроскопическое ядрышко для будущего общественного организма. Очевидно, это значительно труднее, чем призвание варягов или крещение Руси. Да и Петру Великому, помимо гения, дело облегчалось возможностью своевременного и целесообразного употребления дубинки. А добровольное согласие на добро — это оказывается для наших сограждан чем-то вроде квадратуры круга. Я, впрочем, не впадаю в смертный грех уныния, особенно ввиду явных признаков, что небесное начальство потеряло терпение и хочет серьезно за нас приняться»12. Такое восприятие В. Соловьевым реальной России его времени — священного православного Царства и просто сверхдержавы, мирового лидера не только по площади населения, но и в науке, культуре и технике, — как всего лишь «хаоса, или просто слякоти», говорит о его очень нездоровом душевном и духовном состоянии. О тяжкой гордыне его ума и души, ведь В. Соловьев здесь всерьез возомнил себя новым «демиургом», впервые созидающим в России ее «общественный организм». Особенно поражает его ехидно-злорадное замечание о том, что «небесное начальство потеряло терпение и хочет серьезно за нас приняться». Да, именно так и произошло в ХХ в., и В. Соловьева поэтому можно даже считать «пророком» будущих катастроф, однако это «пророчество» явно исходило от лукавого.
Вообще создается впечатление, что В. Соловьев жаждал исторических катастроф, которые бы разрушили Россию. Они писал: «Физически Россия еще довольно крепка, как это обнаружилось в ту же последнюю Восточную войну. Значит, недуг наш нравственный: над нами тяготеют, по выражению одного старого писателя, „грехи народные и несознанные“. Вот что прежде всего требуется привести в ясное сознание… Самый существенный, даже единственно существенный вопрос для истинного, зрячего патриотизма есть вопрос не о силе и призвании, а о „грехах России“»13. Здесь В. Соловьев, как обычно, совершает грубую подмену понятий: ведь «грехи народные» — это грехи конкретных людей, а вовсе не «грехи России». О грехах России как страны и целого народа православные святые стали говорить только в ХХ в. — о грехе отступления от Церкви и убийства Помазанника Божиего, за что Россия понесла тяжкую кару в виде 70-летного рабства у безбожного режима, прообразом которого в Ветхом Завете был Вавилонский плен народа Божиего. Но традиционное русофобское рассуждение о «грехах России» у В. Соловьева — это лишь выражение его крайней гордыни. Кто он такой, чтобы судить Россию? В XIX в. этого не делали даже святые. Более того, он призывал даже «стыдиться за Россию», на что получил жесткую отповедь Н. Н. Страхова, справедливо обвинившего В. Соловьева в безнравственности: «Стыдиться России? Сохрани нас Боже! Это было бы для меня неизмеримо ужаснее, чем если бы я должен был стыдиться своего отца и своей матери. Иные речи г. Соловьева об России кажутся мне просто непочтительными, дерзкими»14. Непочтительными речи В. Соловьева были по отношению к России, а по отношению к Н. Н. Страхову он доходил и до оскорблений.
Можно даже сказать, что психологические черты самого В. Соловьева явно проступают в том образе «антихриста», который он нарисовал в «Трех разговорах». Он описал его так: «Был в это время между немногими верующими-спиритуалистами один замечательный человек <…> который был одинаково далек как от умственного, так и от сердечного младенчества. Он был еще юн, но благодаря своей высокой гениальности к тридцати трем годам широко прославился как великий мыслитель, писатель и общественный деятель. Сознавая в самом себе великую силу духа, он был всегда убежденным спиритуалистом, и ясный ум всегда указывал ему истину того, во что должно верить: добро, Бога, Мессию. В это он верил , но любил он только одного себя »15.
Именно таким персонажем и выступает В. Соловьев в своих нападках на Н. Данилевского и вообще на всех тех, кого он называет «славянофилами» и «националистами». Однако это сказано ему не в укор, а, скорее, в оправдание — ведь очень трудно быть христианином, имея такой характер. В этом отношении В. Соловьев был похож на Достоевского, который имел антихристианские черты характера, отраженные не только в известном «скандальном» письме Н. Н. Страхова о нем, но в первую очередь во многих его героях — фактических «двойниках» автора, которых он «изживал» в себе через своих героев (на этот внутренний исток основных героев Достоевского проницательно обратил внимание еще Вяч. Иванов). Традиционно считается, что прототипом Ивана Карамазова был именно В. Соловьев — и это полностью подтверждается тем характером В. Соловьева, которые столь откровенно проявился в его полемических сочинениях.
В. Соловьев не смог успокоиться даже после смерти Н. Данилевского и продолжил свои нападки на его книгу и после прекращения ответов Н. Н. Страхова, который уже не видел никакого смысла полемизировать с ним, поскольку В. Соловьев был совершенно глух к аргументам и переходил на личные оскорбления. Он пишет целый цикл полемических статей во второй выпуск сборника «Национальный вопрос в России»: «Несколько слов в защиту Петра Великого» (1889), «Славянофильство и его вырождение» (1889), «О грехах и болезнях» (1889), «Мнимая борьба с Западом» (1890), «Счастливые мысли Н. Н. Страхова» (1890), «Немецкий подлинник и русский список» (1890). Стоит рассмотреть здесь несколько ключевых утверждений В. Соловьева как примеров подмены понятий и мифологизации оппонента.
Н. Данилевский, по словам В. Соловьева, якобы «стоит всецело и окончательно на почве племенного и национального раздора, осужденного, но еще не уничтоженного евангельскою проповедью. Мысль русского писателя не имеет крыльев, чтобы подняться хотя бы лишь в теории над этою темною действительностью»16.
На самом же деле Н. Данилевский просто стоит на почве реальной истории, в которой национальный раздор не только не уничтожен евангельскою проповедью, но часто даже усилен ею, что и было предсказано самим Спасителем в уже упомянутых словах: «не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить» (Мф 10:34). Если В. Соловьеву хотелось мыслить некое утопическое «идеальное» общество — это его право, но такое занятие не имеет никакого отношения к исследованию реальной истории. В отличие от В. Соловьева, Н. Данилевский занимался не утопиями, а реальной историей — и поэтому упрек ему в том, что реальная история не соответствует утопическим мечтаниям В. Соловьева, здесь неуместен.
Подлинные национализм и партикуляризм имеют место как раз у В. Соловьева — это коллективный национализм романо-германских народов, которым, по его мнению, должен быть подчинен весь остальной мир. Он воспроизводит традиционный тезис европейских расистов и шовинистов: «Народы Востока, за исключением евреев, видевшие в самом Боге небесном одну только абсолютную силу, естественно преклонялись и на земле только перед проявлением внешней силы, перед грубым фактом, не спрашивая у него никакого внутреннего идеального оправдания. Отсюда то равнодушие к истине, то уважение ко всякой искусной и успешной лжи, которым всегда отличалась восточная половина человечества. Отсюда же отсутствие у нее всякого понятия о человеческом достоинстве, о правах личности»17. На самом же деле как раз наоборот, это Запад стал первой в истории мира цивилизацией, которая начала основывать свои притязания на мировое господство исключительно на материальной (экономической и военной) силе, без каких-либо духовных и нравственных оснований. Поэтому в западной цивилизации и возник особый институт защиты прав индивида, поскольку индивид оказался под мощным террором государства, без защиты общины и традиции, как это имело место на Востоке. (При этом В. Соловьев использует либеральный термин «права личности», который некорректен, поскольку субъектом права является не личность, а социальный индивид; личность же — это метафизическое понятие, образ Божий в человеке, который не вступает в правовые отношения.) Ненависть В. Соловьева к Востоку вообще, и к России в частности, достигает такого накала, который вполне сопоставим даже с человеконенавистническими идеологиями ХХ в. — большевизмом и нацизмом. Его ненависть к якобы «национализму» — а на самом деле ко всем незападным цивилизациям, особенно к русской и китайской, — это выражение вовсе не «универсализма», а как раз наоборот, гордыни европоцентризма и коллективного национализма европейских народов.
В. Соловьев воспроизводит еще один традиционный русофобский миф в таком тезисе: «Утверждаясь в своем национальном эгоизме, обособляясь от прочего христианского мира, Россия всегда оказывалась бессильною произвести что-нибудь великое или хотя бы просто значительное»18. Россия никогда не утверждалась в своем «национальном эгоизме», поскольку у нее никакого «национального эгоизма» никогда не было. На национальном эгоизме всегда была основана жизнь западных народов. Россия, в отличие от Запада, всегда жила своей исторической миссией — миссией сохранения Православия. И от этой миссии Россия отступала только тогда, когда начинала подражать Западу — сначала частично после Петра I, а затем уже полностью была порабощена западной идеологией в советский период. И возникновение России как великого государства-цивилизации в XV–XVII вв., и затем ее периоды высшего расцвета как сверхдержавы (эпоха, начатая Николаем I) всегда были периодами суверенности и относительной закрытости от Запада, а вовсе не «национального эгоизма», как лживо пишет В. Соловьев.
В. Соловьев старается изобразить теорию Н. Данилевского как некую деградацию по отношению к ранним славянофилам: «Те утверждали, что русский народ имеет всемирно-историческое призвание, как носитель всечеловеческого окончательного
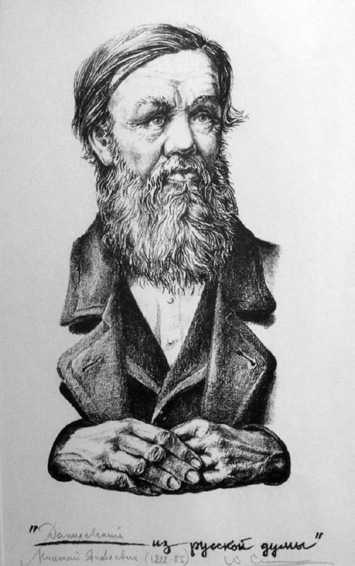
Портрет Н. Я. Данилевского.
Цикл «…Из русской думы». Худ. Ю. И. Селиверстов, 1980-е гг.
поступательное движение вообще не
просвещения; Данилевский же, отрицая всякую общечеловеческую задачу, считает Россию и славянство лишь особым культурно-историческим типом, — однако наиболее совершенным и полным»19. На самом же деле как раз наоборот, Н. Данилевский не только не отрицает всемирноисторическое призвание России, но доводит его до высшего уровня осознания , научно обосновывая тот факт, что Россия не относится к европейскому культурно-историческому типу, а создала свой собственный, которому и принадлежит будущее. Это логическое развитие главной мысли славянофилов до уровня научной теории .
Построение Н. Я. Данилевским теории культурно-исторических типов имеет целью защиту свободы исторического творчества всего человечества — вопреки претензии одной из его частей на то, чтобы объявить себя вершиной истории и тем самым завершить исторический прогресс. Такое понимание истории — как раз наилучшее «лекарство» от какого-либо «партикуляризма», наилучшая школа уважения ко всем историческим традициям и формам исторического творчества. Н. Я. Данилевский едва ли не первым в мировой науке преодолел наивный европоцентризм в понимании мировой истории. Он писал: «Дабы прекратилось в жизни всего человечества, необходимо, чтобы, дойдя в одном направлении до известной степени совершенства, началось оно с новой точки исхода и шло по другому пути, т. е. надо чтобы вступили на поприще деятельности другие психические особенности, другой склад ума, чувств и воли, которыми обладают только народы другого культурноисторического типа. Прогресс <…> состоит не в том, чтобы идти все в одном направлении (в таком случае он скоро бы прекратился), а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех направлениях. Поэтому ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтоб она пред-
ставляла высшую точку развития, в сравнении с ее предшественницами или современницами, во всех сторонах развития»20.
Распространенное обвинение теории культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского в «биологизации» истории основано на логическом недоразумении. Ученый предлагает природные аналогии (пользуясь строгим методом научных аналогий) для прояснения вовсе не «биологических», а собственных законов развития культурно-исторических типов. Аналогия с биологическим организмом помогает понять выделение целых культурно-исторических типов, границы между которыми проводятся не по отдельным признакам, но их совокупностям, составляющим органическую целостность. Не понимая этого принципа, В. Соловьев, например, возмущается тем, что «контраст представляется в политическом отношении между военною централизованною деспотией ниневийских и вавилонских царей и коммерческою местною аристократией финикийских городских республик с их суффетами. Таким образом, нет решительно никакого повода ставить в особую тесную связь эти два, столь различные и даже противоположные, культурные типа»21. Да, в политическом отношении есть контраст, но это только один из многих признаков, а по их совокупности Месопотамия и Финикия принадлежали к одному и тому же культурно-историческому типу — и так считал не только Н. Данилевский, который был первопроходцем, но и О. Шпенглер, и все последующие крупные ученые вплоть до нашего времени.
С другой стороны, В. Соловьев не согласен и с тем, что, несмотря на «тесную культурную связь между Грецией и Римом, Данилевский сделал из них два особых культурно-исторических типа»22. Но это связь именно между разными типами, а не один и тот же тип — по той совокупности признаков, которые здесь выделяет Н. Данилевский. В этом он был более тонким классификатором по сравнению со многими другими авторами, которые, как и В. Соловьев, смешивают Грецию и Рим в одну безликую «Античность».
В. Соловьев возражает и против выделения Европы в единый тип, поскольку при этом «приходится отрицать глубокие национальные отличия европейских на-родов»23. Но Н. Данилевский и не отрицает национальных отличий, которые всегда есть внутри любого культурно-исторического типа, не только европейского. Однако культурно-исторический тип не есть тип национальный: это элементарное соображение В. Соловьев не может понять, поскольку изначально уже обвинил Н. Данилевского в «национализме», т. е. совершил принципиальную подмену понятий. Ссылка на разнообразие наций в Европе не может быть аргументом против того факта, что Европа является единым культурно-историческим типом: во-первых, потому, что Европа сама противопоставляет себя всему остальному миру и вообще сформировалась на основе такого противопоставления, которое вплоть до XIX в. имело даже откровенно расистский характер на уровне и массового сознания, и философии (В. Соловьев, как видим, еще вполне принадлежит к этому типу философии); во-вторых, по своему внутреннему принципу насильственной экспансии: этому принципу не следовал ни один другой культурно-исторический тип, даже Древний Рим, который ограничивался только Средиземноморьем и не имел претензий на мировое господство, как современный Запад.
Первая глава книги Н. Я. Данилевского на конкретном сравнении двух событий показывает, что Европа сознательно противопоставляет себя России как иному субъекту исторической жизни. Из этого объективного факта разносубъектности становится понятной в последующих главах и вся история отношений Европы и России, которые соизмеримы только в качестве качественно разных самостоятельных субъектов истории. Нарушение же этого принципа соизмеримости, например, трактовка России как «части Европы», уничтожает возможность понимания «особой формулы» (А. С. Пушкин) русской истории. Н. Я. Данилевский определял главную специфику европейского и русского культурно-исторических типов на основе общего нравственного принципа: «Что же представляет нам в параллель этой насильственности европейской истории, проявлявшейся во всяком интересе, получавшем преобладающее значение, — история России? Религия составляла и для русского народа преобладающий интерес во все времена его жизни. Но он не ожидал проповеди энциклопедистов, чтобы сделаться терпимым. Терпимость составляла отличительный характер России в самые грубые времена. Скажут, что таков характер исповедуемого ею Православия. Конечно. Но ведь то же Православие было первоначально и религией Запада, однако же, как мы видим, оно исказилось именно под влиянием насильственности романо-германского характера. Если оно не претерпело подобного же искажения у русского и вообще у славянских народов, значит, в самых их природных свойствах не было задатков для такого искажения… того кроткого духа, который веет от христианства, но, напротив того, усвоив его себе, совершенно ему подчинились»24.
Впрочем, некоторыми своими возражениями В. Соловьев только лишь подтверждает диагноз Н. Данилевского, поставленный Европе. Например, когда В. Соловьев пишет: «В начале своей „России и Европы“ Данилевский поставил вопрос: почему Европа так не любит Россию? — Ответ его известен: — Европа, думает он, боится нас как нового и высшего культурно-исторического типа, призванного сменить дряхлеющий мир романо-германской цивилизации. Между тем <…> другой ответ. Европа с враждою и опасением смотрит на нас потому, что, при темной и загадочной стихийной мощи русского народа, при скудости и несостоятельности наших духовных и культурных сил, притязания наши и явны, и определенны, и велики»25. Тезис В. Соловьева о якобы «скудости и несостоятельности наших духовных и культурных сил» совершенно абсурден по отношению к России конца XIX в., когда Россия стала мировым лидером во всех сферах культуры и науки. Фактически В. Соловьев стал на сторону европейской русофобии.
Уже Н. Н. Страхов писал о прозорливости своего соратника: «Когда Данилевский говорил о грядущей борьбе между двумя типами, то он именно разумел, что Европа пойдет нашествием еще более грозным и единодушным. Возьмите дело с этой стороны. Перед взорами Данилевского в будущем миллионы европейцев с их удивительными ружьями и пушками двигались на равнины Славянства; давнишний Drang nach Osten действовал, наконец, с полною силою и заливал эти равнины огнем и кровью. Он видел в будущем, что его любезным славянам предстоят такие испытания, такие погромы, перед которыми ничто Бородинская битва и Севастопольский погром»26. Это фактически предсказание Н. Данилевским и Н. Н. Страховым двух мировых войн (Вл. Соловьев же вместо этого фантазировал о нашествии с Востока).
Иногда возражения В. Соловьева выглядят просто как недоразумение, например, когда он пишет: «начало русско-славянского исторического типа выработано не им самим, а принято целиком и без всякого изменения от византийских греков, принадлежащих к иному культурному типу»27. Но это подтасовка и подмена понятий, ведь принятие традиции не означает, что она взята без всяких изменений — она стала лишь исходным материалом, одним из факторов выработки нового культурноисторического типа.
Или тезис: «невозможно себе объяснить, почему он, вместо того чтобы говорить о различных типах науки сообразно цельным и обособленным группам, на которые он делил человечество, указывает лишь на национальный характер, присущий ученым различных наций»28. Объясняем: потому что современная наука создана одним — европейским — культурно-исторического типом и была заимствована другими типами, приобретая лишь разные национальные стили, но она не делится на разные «типы» науки.
Часто «методы» полемики В. Соловьева просто удивляют. Например: «оказывается, что интересы человечества, кроме Бога, сознаются еще (хотя и post factum) автором „России и Европы“»29, — ехидно пишет В. Соловьев. Т. е. он сначала приписал Н. Данилевскому отрицание понимания интересов единого человечества, а когда этого отрицания у Н. Данилевского не оказалось, то его же (а вовсе не себя) он и обвинил в противоречии. Такой «прием» приписывания Н. Данилевскому противоречий, выдуманных самим В. Соловьевым, используется им многократно. Например, он пишет: «Стоит только в „систему“ культурно-исторических типов серьезно подставить понятие о „живых и деятельных органах человечества“ — и уже одним этим

Восстановленная могила Н. Я. Данилевского в его крымском имении Мшатка определением вполне опровергается партикуляризм нашего автора»30. Здесь В. Соловьев демонстрирует настолько вопиющую подмену понятий, которая доходит уже до лицемерия. Ведь зная, что Н. Данилевский с самого начала исходит из понятия о культурно-исторических типах как «живых и деятельных органах» единого человечества, он, тем не менее, все равно лживо обвиняет его в «партикуляризме», а затем, когда такое обвинение не подтверждается, — еще и обвиняет самого Н. Данилевского в противоречии.
Можно также отметить, что на самом деле «теократическая» утопия В. Соловьева и теория Н. Данилевского вполне совместимы, и поэтому В. Соловьев совершенно напрасно видел в ней своего «конкурента». Как показывают современные события, уничтожение христианства на Западе, которое уже стало официальной политикой «культуры отмены», делает неизбежным возвращение хотя бы части западных христиан к Православию — хотя этот процесс уже давно начат миссионерством русской эмиграции. К. Н. Леонтьев в статье «Владимир Соловьев против Данилевского» писал: «Тогда отчего ж и не произойти все тому же соединению Церквей? Только иным обратным движением: духовной победой Востока над Западом. Мы перетянем к себе тогда католиков. И такое соединение не будет уже, вероятно, иметь в себе вида ни знакомого и уже давно данного нам Римского Католичества, ни „старого“, так сказать, Русского Православия, неподвижного и безвластного <…>. Припомним: все влияния Запада на Восток были эфемерны и поверхностны; все же воздействия Востока на Запад были прочны и хотя тоже не вечны, но оставили глубокие следы»31. Эти слова сбываются в наше время.
К сожалению, следует отметить, что в своей полемике с оппонентами — особенно с теми, кого он называл «славянофилами» и «националистами», В. Соловьев всегда пользуется «методом» подмены понятий, приписывая им свои собственные измышления и «критикуя» их, а не реальные идеи своих оппонентов. Это не что иное, как феномен «двойничества» (А. Ухтомский), который даже можно назвать интеллектуальным аутизмом.
В свою очередь, Н. Данилевский построил свою историософию не только на основе строгого исторического реализма (а не секулярного утопизма, как В. Соловьев), но и в соответствии с тем пониманием исторического бытия, которое вытекает из слов апостола: «совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол 3:10–11). Это означает, что содержанием истории является преображение «ветхого» человека в нового, которое возможно в любом обществе, в любом строе и культурноисторическом типе, и совершенно не зависит от них. Построение «идеального» общества не только невозможно, но и не нужно — а само стремление к этому является уклонением от цели христианской жизни и впадением в прелесть, которая неизбежно приводит и к безбожию. Истинный путь преображения и спасения включает в себя и путь смирения перед исторической реальностью, который демонстрирует историософия Н. Данилевского.
Список литературы О ложности обвинений Вл. Соловьева в адрес Н. Данилевского
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991. 574 с.
- Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. Т. 9. Материалы разных лет. М.: Мысль, 1990. 525 с.
- Котрелев Н. В., Рашковский Е. Б. Примечания // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 664–712.
- Лабанов С. Владимир Соловьев против национальных мыслителей. Ч. 2. URL: https://ruskline.ru/monitoring_smi/2007/06/06/vladimir_solov_yov_protiv_nacional_nyh_myslitelej_chast_vtoraya (дата обращения: 13.09.2024).
- Леонтьев К. Владимир Соловьев против Данилевского // Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. СПб.: Вдадимир Даль, 2007. С. 316–392.
- Синельников Ф. И. Соловьев против Данилевского. URL: https://magisteria.ru/russian-historiosophy/solovyov-vs-danilevsky (дата обращения: 13.09.2024).
- Соловьев В. С. Замечания на лекцию П. Н. Милюкова // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 492–496.
- Соловьев В. С. Мнимая борьба с Западом // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1989. С. 531–554.
- Соловьев В. С. О грехах и болезнях // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1989. С. 513–531.
- Соловьев В. С. Россия и Европа // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1989. С. 332–396.
- Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 635–762.
- Сомин Н. Критика теории Данилевского В. С. Соловьевым. URL: http://pereprava.org/trust/2853‑kritika-teorii-danilevskogo-vs-solovevym.html (дата обращения: 13.09.2024).
- Страхов Н. Н. Наша культура и всемирное единство // Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991. С. 515–525.
- Страхов Н. Н. Последний ответ г. Вл. Соловьеву // Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991. С. 525–532.