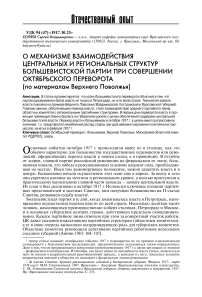О механизме взаимодействия центральных и региональных структур большевистской партии при совершении октябрьского переворота (по материалам Верхнего Поволжья)
Автор: Холяев Сергей Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье аргументируется, что успех большевистского переворота объяснялся тем, что партия одновременно брала власть не только в Петрограде, но и по всей стране. Технология захвата власти показана на примере Верхнего Поволжья (Владимирской, Костромской и Ярославской губерний). Главным звеном, обеспечившим переход власти, стало взаимодействие среднего партийного звена, областных комитетов с региональными партийными структурами. В первые дни переворота власть в провинции преимущественно бралась на губернском уровне с целью обеспечения поддержки центральной большевистской власти. Переход власти к большевикам в октябре 1917 г. в целом имел прогрессивное значение, т.к. предотвратил неизбежный распад страны при дальнейшем сохранении политических процессов, начатых в феврале 1917 г.
Октябрьский переворот, большевики, верхнее поволжье, московский областной комитет рсдрп(б), эсеры
Короткий адрес: https://sciup.org/170167885
IDR: 170167885 | УДК: 94
Текст научной статьи О механизме взаимодействия центральных и региональных структур большевистской партии при совершении октябрьского переворота (по материалам Верхнего Поволжья)
О сновные события октября 1917 г. происходили вовсе не в столице, как это обычно характерно для большинства государственных переворотов или революций, оформляющих переход власти к новым силам, а в провинции. В отличие от эсеров, главной партии российской революции на февральском ее этапе, большевики поняли, что победу в революционных условиях одержит сила, преобладающая на местах 1 . Имея там доминирующее положение, можно захватить власть и в центре. Большевики начали осуществлять этот план еще в апреле. За весну и лето они укрепили влияние на местном и региональном уровне, а осенью приступили к практическому выполнению главной части замысла – захвату центральной власти. Их план и был реализован в октябре 1917 г. Используя ключевые позиции партийных представителей в местных Советах, они получили большинство на II съезде Советов, решавшем судьбу власти 2 .
Большевистская партия в те дни, когда захватывалась власть в Петрограде, одновременно осуществляла переход власти по всей стране. Несколько десятков тысяч человек, находившихся преимущественно в обеих столицах, Петрограде и Москве, и в основных губернских центрах страны, действовали предельно скоординированно. Каждое партийное звено отвечало при этом за конкретный участок работы. ЦК давал указания нижестоящим партийным структурам (областным комитетам), а те в свою очередь выполняли координирующую роль для губернских комитетов. Областные комитеты руководили действиями партийных работников нескольких соседних губерний [Аннин 1983: 104, 107].
Так, три верхневолжских губернии – Владимирская, Костромская и Ярославская – подчинялись Московскому областному комитету. Всего в сфере его контроля оказалось 13 губерний. Обкомы занимались разработкой паролей для всех губернских центров и крупнейших уездных городов, находившихся под их юрисдикцией, – для каждого города специально принимался отдельный пароль. Примерно за неделю до Октябрьского переворота эмиссары областных комитетов выезжали в подведомственные города и сообщали пароль. Местные большевики должны были получить его при начале ожидавшегося события в виде телеграммы. Получив текст такой телеграммы, они должны были понимать, что в это время их партия в Петрограде начинает захват власти, и, не дожидаясь официальных сообщений из столицы, они должны действовать на своем уровне. Так, в Ярославле паролем были слова: «Конференции никто не будет». Эта телеграмма была получена в Ярославле 25 октября, около 12 часов дня 1 .
Сотрудница московского областного бюро А.А. Янышева, занимавшаяся непосредственной рассылкой телеграмм, впоследствии вспоминала: «В то утро, 25 октября, было разослано по губернским и крупным уездным городам 18 условных телеграмм. Чтобы не вызывать подозрений, сдавали их по одной-две на разных почтовых отделениях Москвы. Только вечером, когда мы узнали о публикации ленинского обращения “К гражданам России!”, мы открыто сообщили в ряд городов: “В Петрограде власть перешла к Советам”» 2 .
При этом эмиссары Московского областного комитета обращали внимание большевиков в регионах на то, что власть переходит не к Советам, а к партии. «Задачей партии является взять на себя руководство движением и подготовить массы и массовые революционные Советы к захвату власти» 3 . Партийные представители, приезжавшие из Москвы (как, впрочем, и их коллеги из других областных комитетов), инструктировали однопартийцев, боровшихся за переход власти на местном уровне, что партия должна быть готова в случае необходимости к вооруженному захвату власти. Они поручали губернским партийным комитетам посылать активистов в уездные и сельские организации для проведения там военно-боевой работы и сбора сведений военно-технического характера о каждой местности, чтобы знать, на помощь каких сил можно рассчитывать в случае осложнения дел в Москве или в других городах. Московское областное бюро настраивало губернские партийные организации на то, чтобы в случае возникновения осложнений разрешать все вопросы не компромиссным путем, а идти на открытый конфликт [Аннин 1983: 109-111].
О том, как готова была действовать описанная выше система, показывают события в Москве. Здесь большевики не смогли взять власть мирным путем, и им потребовались военно-боевые операции. 26 октября орган, созданный в Москве большевиками, – военно-революционный комитет (ВРК) попытался захватить власть, послав двух комиссаров принять командование Кремлем и раздать оружие красногвардейцам. Но, проникнув на территорию Кремля, они были окружены, и 28 октября контроль над городом перешел к приверженцам февральской власти. Кремль был освобожден от большевиков. Для них сложилась критическая ситуация.
Однако ВРК вступил в переговоры с городским головой эсером В.В. Рудневым. Переговоры длились 3 дня (с 28 по 30 октября) и позволили большевикам выиграть время, чтобы стянуть подкрепление из близлежащих пригородов и промышленных городов. Революционный комитет, оценивавший положение в ночь с 28 на 29 октября как критическое, 2 дня спустя чувствовал себя настолько уверенно, что в одностороннем порядке разорвал переговоры и начал наступление. Утром 2 ноября власть в Москве была захвачена [Пайпс 1994: 174-175].
Центральное большевистское правительство, сформированное 25 октября, буквально через несколько дней получило поддержку губернской власти. На стратеги- чески важной территории Верхнего Поволжья, располагающейся недалеко от обеих столиц, переход губернской власти к большевикам завершился к концу октября: 27 октября власть сменилась во Владимире и Ярославле, а 29 октября в – Костроме1 [Бланк 1954: 53].
Таким образом, действия большевиков по сути представляли собой военный заговор, проведенный скоординированно и одновременно по всей стране. В то же время эти действия следует расценивать не как анархические, разрушительные, а напротив, восстановительные. Большевики в октябрьские дни проделали громадную собирательную работу по объединению страны в руках одной политической силы. Впервые после Февраля образованное центральное правительство (в данном случае Совет народных комиссаров) получило поддержку губернских властей в лице губернских Советов рабочих и солдатских депутатов, к которым перешла власть на местах. Именно поэтому их действия в условиях разрухи, характерной для февральской России, следует признать прогрессивными, направленными на созидание, собирание России. Большевики, приходя к власти, становились страстными поборниками централизации, строгого подчинения местных властей центральной. 8 ноября эту мысль высказал в Костроме председатель местного партийного комитета Н.П. Растопчин, заявивший, что большевики, силой захватившие власть, стали государственниками 2 .
Большевики делали то, что не смогло выполнить прежнее правительство, – централизовали власть. Они видели в Советах местные правительственные органы, призванные неукоснительно выполнять директивы центра и напрямую подчиняющиеся как центральному правительству – Совету народных комиссаров, так и областным, губернским и уездным Советам.
Надо отдать должное большевикам: они действовали очень осторожно и методично. В первые дни они брали власть лишь там, где могли ее удержать. Направляя главные усилия на получение власти в губернских центрах, в уездах они захватывали власть только там, где имели заведомое большинство. В Верхнем Поволжье такими городами были Иваново-Вознесенск, Шуя, Кинешма, Гусь-Хрустальный, Ковров, Орехово-Зуево 3 . В тех же уездных городах, где у них наблюдалось примерное равновесие с умеренными социалистами, они не предпринимали резких действий, способных кардинально изменить соотношение сил. В Ярославской губернии такими городами были Ростов и Рыбинск. В Ростове местный Совет под воздействием большевиков высказался за Советскую власть, т.е. за поддержку нового правительства, но воздержался от захвата власти в городе «до тех пор, пока не будет указаний из центра». В Рыбинске 3 ноября Совет принял похожую резолюцию о том, что власть на местах должна принадлежать Советам [Козлов, Резвый 1957: 153154, 157, 162].
Такая тактика принесла колоссальную пользу, поскольку эсеры, смирившись с тем, что власть находится у большевиков, полагали, что с ними вполне можно договориться, и сосредоточили усилия на выборах, надеясь сплотить оппозиционные большевикам социалистические силы под лозунгом защиты Учредительного собрания. Они верили, что, если выборы принесут им большинство, большевики возвратят власть 4 .
Но в борьбе все решает фактор силы. И главной целью большевиков стало ослабление популярности конкурирующей с ними эсеровской партии. С этой целью большевики выставляли эсеров в глазах народа пособниками контрреволюции – не своими конкурентами по борьбе за власть, как это было на самом деле, а заведомыми реакционерами, пособниками буржуазии и помещиков. Конфликту, про- исходившему внутри социалистического лагеря, большевики хотели придать видимость борьбы с контрреволюцией: «…борьба ведется… между трудящимися и трутнями… борются два класса – пролетариат и буржуазия». Тогда влияние настоящей буржуазии вследствие разгрома в августе корниловского движения было на самом деле невелико1.
Владимирские большевики писали о местных эсерах: «…Владимирский губернский крестьянский Совет во главе с партией социалистов-революционеров обратился к крестьянам Владимирской губернии с воззванием противодействовать рабочим и солдатам в их борьбе против деревенской и городской буржуазии. Крестьяне… должны ответить, с кем Вы? …с предательской оборонческой партией социалистов-революционеров или с революционной партией рабочих, солдат, крестьян, партией большевиков (интернационалистов)» 2 .
Столкновение эсеров с большевиками выглядело неизбежным. Не надо забывать: большевики и эсеры сражались на одном поле, делая ставку не на узкое соглашение с «верхами» общества, а на массовые слои населения. Эсеры претендовали на выражение интересов самого многочисленного класса – крестьянства. И значит, большевики могли иметь успех только в том случае, если бы находились на вершине власти в одиночестве. При наличии эсеров во власти они являлись бы лишь второй партией, а это их никак не устраивало.
И потому все попытки эсеров и меньшевиков убедить большевиков в желательности формирования совместного правительства лишь оттягивали это столкновение, давая большевикам время для укрепления позиций и не позволяя эсерам и меньшевикам использовать против них сохранявшиеся за ними значительные ресурсы. Использовав предоставленное время для укрепления власти, большевики сразу же после роспуска Учредительного собрания расправились с теми государственными учреждениями, в которых преобладали эсеры (городские думы и земства). Эти структуры являлись опорными пунктами эсеров, и через них они вели отчаянную борьбу за созыв Учредительного собрания 3 .
Роспуск большевиками учреждений, поддерживающих другую партию, был естественен и логичен. Прекратили существование и остальные структуры, зависимые от эсеров, – комитеты общественной безопасности (КОБы), прежде являвшиеся главными на местах, а с лета 1917 г. переместившиеся на периферию управления, а также институт губернских и уездных комиссаров.
Таким образом, следует признать, что, хотя чисто внешне действия большевиков по захвату власти носили анархический характер и выглядели как вооруженный мятеж против законной власти, в действительности в условиях разрушительных февральских процессов это было началом собирания страны! Большевики делали то, чего не сумела сделать прежняя, февральская власть: восстанавливали единство центральной и местной власти. Впервые с начала революции образованное ими центральное правительство (Совет народных комиссаров) получило поддержку губернских властей в лице губернских Советов рабочих и солдатских депутатов, к которым перешла власть на местах. Тем самым предотвращался неизбежный в будущем, при ином раскладе политических событий, т.е.продолжении февральских процессов, распад страны.
Список литературы О механизме взаимодействия центральных и региональных структур большевистской партии при совершении октябрьского переворота (по материалам Верхнего Поволжья)
- Аннин Г.П. 1983. Большевики Верхневолжья в 1917 году. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство. 143 с
- Бланк А.С. 1954. Владимир. Краткий очерк истории города. Владимир: Владимирское книжное издательство. 92 с
- Козлов П.И., Резвый Н.И. 1957. Борьба за власть Советов в Ярославской губернии. Яр.: Ярославское книжное издательство. 259 с
- Пайпс Р. Русская революция. 1994. М.: РОССПЭН. Ч. 2. 584 с
- За власть Советов. Хроника революционных событий в Костромской губернии. Февраль 1917-март 1918. (сост. М.И. Синяжников). 1967. Ярославль -Кострома: Верхневолжское книжное издательство. С. 88; Установление Советской власти в Ярославской губернии: сборник документов и материалов. 1957. Яр.: Ярославское книжное издательство. С. 255.
- Жохов М. 1974. Сигнал восстания. -Северный рабочий (Ярославль). 6 ноября. С. 4.
- Центр документации новейшей истории Ярославской области (ЦДНИЯО). Ф. 394. Оп. 5. Д. 78. Л. 45.
- Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 149а. Л. 288; Центр документации новейшей истории Костромской области (ЦДНИКО). Ф. 383. Оп. 2. Д. 34. Л. 12.
- Поволжский вестник (Кострома). 1917. 11 ноября.
- ЦДНИКО. Ф. 383. Оп. 1. Д. 19. Л. 194(об); Очерки истории Ивановской организации КПСС. Ч. 1. 1892-1917. 1957. Иваново: Ивановское книжное издательство. С. 450, 459-460; Очерки истории Владимирской организации КПСС. 1957. Ярославль. С. 144-150.
- Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 1957. Сборник документов (под ред. А.Ф. Бутенко, Д.А. Чугаева). М.: Госполитиздат. С. 402-405, 409-412.
- Голос народа (Владимир). 1917. 27 окт.
- Поволжский вестник. 1917. 3 дек.