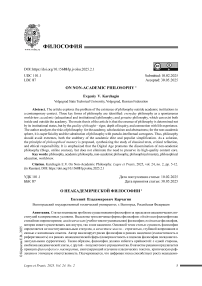О неакадемической философии
Автор: Карчагин Е.В.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме существования философии за пределами академических институций в современных условиях. Выделены три ключевые формы философии: обыденная философия как стихийное мировоззрение; академическая (учебно-институциональная) философия; подлинная философия, которая может существовать как внутри, так и вне академии. Основной тезис статьи: сущность философии определяется не институциональным статусом, а качеством мысли – строгостью, глубиной вопрошания и связью с жизненным опытом. Автор анализирует риски философии в рамках академии (схоластичность и реферативность) и в рамках неакадемической сферы (поверхностность и подмена философии псевдоинтеллектуальными суррогатами). Таким образом, философия должна избегать крайностей: с одной стороны, снобизма академической элиты, с другой – популистского упрощенчества. В качестве решения предлагается принцип философского мастерства, синтезирующий изучение классических текстов, критическую рефлексию и этическую ответственность. Подчеркивается, что цифровая эпоха способствует росту неакадемической философии (блоги, онлайн-курсы), но не отменяет необходимости сохранения ее качественного содержательного ядра.
Философия, академическая философия, неакадемическая философия, философское мастерство, философское образование, мировоззрение
Короткий адрес: https://sciup.org/149149465
IDR: 149149465 | УДК: 101.1 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2025.2.1
Текст научной статьи О неакадемической философии
DOI:
Философия далеко не всю свою историю была академической, то есть связанной со специальными учебными заведениями, или более точно – привязанной к Университету. И до того, и параллельно с этим философия в ряде своих проявлений существовала как «частным образом», так и в связи с другими институциями (преимущественно религиозными).
М. Фуко в одном из своих многочисленных интервью отметил, что для философа вопрос интеграции в обществе до последнего времени вообще не стоял: «До XIX века философов не признавали. Декарт был математиком, Кант не преподавал философию, он преподавал антропологию, географию, риторику, а не философию, так что об интеграции философа не могло быть и речи. Именно в XIX в. наконец появились кафедры философии» [Foucault 1994, 553].
Впрочем, сама связь философии и Университета не всегда оценивались положительно. Так, А. Шопенгауэр в свое время утверждал, что «если правительства делают философию средством для своих государственных целей, то ученые, с другой стороны, видят в философской профессуре ремесло, которое, как и всякое другое, дает кусок хлеба; они и стремятся к ней, ручаясь за свою благонамеренность, то есть за свою готовность служить указанным целям» [Шопенгауэр 1992, 45]. Здесь нас интересует прежде всего болезненная тема злоупотреблений философией, в том числе в академическом мире.
В XX в. происходит массовизация и коммерциализация общественной жизни. Академия и философия сталкиваются с новым вызовом. Университет превращается в массовую «бюрократически организованную и относительно автономную потребительски ориентированную корпорацию» [Ридингс 2010, 25]. Все большее число людей сталкиваются с фило- софией. Но насколько такое столкновение будет полезным для человека и для самой философии? Чем чреваты выход философии из академии или вход в академию «случайных людей»? Как мы понимаем академию: как эмпирически актуальную ситуацию распадающегося Университета и превращения его в экономическое предприятие или как символ свободной мысли, духа подлинного философствования (подобно Академии Марсилио Фи-чино, противопоставленной университетской схоластической учености)? Для чего и кому сейчас нужна философия за рамками университета и академических институций? Каким должно быть позиционирование философии и обучения философии вне академии?
В этом тексте представлены некоторые ответы на эти вопросы, а также ставятся новые вопросы. Тем самым здесь обсуждаются проблема существования философии за пределами академических институций, нормативные условия и горизонт существования философии.
К сожалению, слово «философия» истаскано, издергано, избито. Соответственно, когда мы говорим о «философии», не всегда понятно, о чем, в сущности, идет речь. Это непонимание связано с представлениями, имеющие чувственный источник, это обывательский уровень в философии и вообще знания чего-либо. Самое распространенное толкование философии – это обывательские представления. Многие впервые слышат слово «философия», когда в повседневном общении с родственниками или с друзьями кто-нибудь говорит: «Ты философствуешь». Или в бизнес-сфе-ре встречаются рассуждения примерно такого рода: «Философия нашей фирмы заключается в том, что мы клиентоориентированы, мы развиваемся». Когда люди говорят «про жизнь», про свое восприятие жизни «на кухне» и сообщают людям это свое восприятие, свой опыт жизни, называя это своей «философией», тогда мы имеем дело с «доморощенной» философией. Вполне справедливо такая народная мудрость может быть подвергнута критике. Так, П.Я. Чаадаев писал: «Я всегда думал, что так называемый здравый смысл народа вовсе не есть здравый смысл; что не в людской толпе рождается истина» [Чаадаев 1991, 524].
Сегодня существуют разнообразные альтернативные прежним классическим институциям формы и проявления философии, имеющие высокую популярность: публичные лектории, сетевые учебные заведения, индивидуальное обучение и курсы для всех желающих от философа с академической аффилиацией, книги, паблики и блоги научно-популярного направления и так называемой популярной психологии, часто воспринимаемой в качестве «философии». Феноменально популярный в самых широких кругах стоицизм дает львиную долю содержания для такого рода форм.
Такое положение дел во многом усиливается благодаря развитию и распространению Интернета. Однако в этой связи значим вопрос объемов и форматов. Например, можно ли философствовать в блоге, на своей странице в социальной сети? Насколько достаточно для выражения философской мысли малого объема знаков? Насколько для мысли органично присутствие в социальной сети? Может ли такая публикация быть субстанциальной или она представляет собой только знак – отсылку к артефактам подлинной философии, к полноценной статье или книге. Однако и лекции, особенно когда их затем издают, могут быть носителями философского содержания. Являются ли они предельно допустимой полной формой философии? Может ли пост в соцсети быть равен колонке философа в «приличном» медиаиздании? Можно ли философствовать в блоге? И чья мысль целиком выражается в таком формате? Есть ли успешные блогеры-философы с оригинальным контентом? Очевидно, что развитие Интернета ничего, по сути, не поменяло и не может поменять. Могут усилиться только уже имеющиеся тенденции, и могут видоизмениться уже имеющиеся формы бытования философии.
Такая распространенность и популярность, как кажется, продиктованы глубинными мировоззренческими запросами современного человека. Еще И. Кант писал, что «спрос» на метафизику «никогда не может исчезнуть, потому что интерес общего человеческого разума слишком тесно с ней связан» [Кант 1965, 71]. В этом случае интерес к философии часто смешивается с более широким мировоззренческим интересом к религиозным учениям, мифологии и житейской мудрости.
Иногда такое смешение приводит к отождествлению смысложизненных и мировоззренческих поисков и практик с философской деятельностью: «Одна из причин, почему чтение важно для людей, заключается в том, что это философская деятельность. Я утверждаю, что для многих из нас чтение представляет собой способ поразмышлять на философские темы, поставить философские вопросы и, возможно, занять определенную позицию» [Пирси 2024, 15]. Для Р. Пирси сам процесс чтения является философской практикой, так как помогает индивиду обрести свою самость, сформировать свои этические взгляды и сориентироваться в мире вещей [Пирси 2024, 18–20]. При этом он к философии относит «характерные, фундаментальные вопросы» и утверждает, что «чтение – это философия именно в этом смысле – в том же, в каком философией могут быть кино и религия» [Пирси 2024, 16].
Такое мнение нередко и среди классиков. Так, А. Грамши считал, что все люди – философы, но «каждый на свой лад, бессознательно», за счет имплицитного мировоззрения в любой самой минимальной интеллектуальной деятельности [Грамши 1991, 26–27]. Аналогично этому К.Р. Поппер писал, что «все люди являются философами, хотя некоторые в большей степени, чем другие» [Поппер 2003, 10].
Ввиду того, что обыватель считает себя уже достаточно компетентным в мировоззренческих вопросах, он может враждебно воспринимать утонченные формы подлинной философской работы, бессознательно воспринимая их как опасного конкурента. Н.А. Бердяев дает удачное описание этого наблюдения: «Философия чужда большей части людей, и вместе с тем каждый человек, не сознавая этого, в каком-то смысле философ. Весь технический аппарат философии чужд большей части людей. Большая часть людей готова употреблять слово “философ” в насмешливом и порицательном смысле. <...> Но каждый человек, хотя бы он этого не сознавал, решает вопросы “метафизического” порядка. Вопросы математики или естествознания гораздо более чужды огромной массе людей, чем вопросы философские, которые, в сущности, ни одному человеку не чужды. И существует обывательская философия тех или иных социальных групп, классов, профессий, как существует обывательская политика. Человек, испытывающий отвращение к философии и презирающий философов, обыкновенно имеет свою домашнюю философию. Ее имеет государственный деятель, революционер, специалист-ученый, инженер-техник. Они именно потому и считают ненужной философию» [Бердяев 1994, 238].
Проблема заключается не в самой связи философии и обыденного сознания. Эта связь понятна. Она в свойствах обыденного сознания.
Очевидно, имеются две разновидности обыденного мышления:
-
1) Замкнутая, ограниченная, застывшая в своей косности, самодостаточная и самодовольная обыденная мысль. Отсутствие сократического духа, иронии по отношению к самоуверенной мудрости, не знающего пределов вопрошания – верный ее признак. Многие предпочитают какую-никакую, а твердую истину, не видя в ее твердости никакой опасности.
-
2) Открытое, развивающееся, самосовершенствующееся обыденное мышление, которое уже с полным правом можно назвать философией, но в силу некоторых причин не достигшей яркого выражения, как это случилось с «философией философов» [Карчагин 2007, 65].
Именно ко второму типу примыкают элементы философии, имеющиеся в литературе, публицистике и научной мысли. Тем самым особый статус имеет проблема прямого и косвенного использования философских идей в других науках и дисциплинах, то есть опять же в стенах академии. Можно отметить влияние философских учений или прямое присут- ствие элементов философии в установках и идеологии ученых-естественников, представителей социально-гуманитарных дисциплин, представителей творческих профессий.
Помимо обыденной «философии» есть академическая, школьная философия. В университетах и других учебных организациях она присутствует в виде учебников, лекций, семинаров, то есть в учебной форме. Ее представителем будет уже не «кухонный мыслитель» или популярный блогер, а преподаватель философии. Преподаватель философии действует буквально как профессионал. Ибо что такое профессиональная философская деятельность? Как отметил К.С. Пигров: «Первый формальный признак профессионализма» – получать деньги за свою работу [Пиг-ров 2006, 118].
Профессионал от философии изначально поставлен в ситуацию искать свое место в имеющейся философской традиции, сформировать свое отношение к ней. М. Хайдеггер вопрошал: «Когда мы философствуем? Лишь тогда, очевидно, когда вступаем в разговор с философами. Это предполагает, что мы говорим с ними о том, что они обсуждают. <…> Одно дело констатировать и описывать мнение философов, и совсем другое – говорить с ними о том, что они традиционно обсуждают, о чем они повествуют» [Хайдеггер 1993, 119].
В зависимости от отношения к традиции выделяют следующие типы профессиональной академической философии [Филатов 1996, 218]:
-
– компилятивный тип философствования: философ стремится выразить свои мысли через мысли других философов, которые выступают для него в качестве безусловных авторитетов , угнетающих мыслительный процесс философствующего;
– критический тип философствования: философ выражает свои мысли через отрицание мыслей других философов, сознательно окарикатуривая концептуальные построения последних;
– спекулятивный тип философствования: философ пытается обойтись без медиатора, оставаясь в своей концептуальной деятельности наедине с самим собой.
– реинкарнационный тип философствования : философствующий мысленно перерождается в авторитет, становится им.
В связи с этим основная опасность для «профессионального» философа – утратить оригинальность. Но это не отрицает необходимости существовать вспомогательной для философии сферы «философоведения», аналогичной художественной критике. «Есть генераторы творчества – философы, композиторы, изобретатели и т. п. Есть ученые, творческие исследователи и исполнители работ генераторов: философоведы, музыковеды, дирижеры, научные и технические работники» [Юркевич 2004, 94].
Есть третья разновидность философии – настоящая, подлинная философия. Когда имеются настоящие философы, которые решают и обсуждают философские проблемы, но которые, может быть, никогда не преподавали в учебных заведениях. Тем самым будет ложной дилеммой считать, что есть только две разновидности философии: обыденно-житейская и академическая / университетская. В сущности, всякая подлинная философия берет лучшее от каждой из названных: от житейской – укорененность в жизни, ее почвенность, от школьной – строгость, четкость, метод.
Одновременно с этим можно обозначить «врагов» подлинности. Первый враг или, скорее, антипод, эрзац, суррогат философии вне академии – это обыденное знание и все его свойства. Другой враг академической философии – это ее пустота, формальная имитация без содержания – реферативность и нео-ригинальность. Однако если обыденщина всегда служит своеобразным ахматовским «сором» для философских проблем, то рефера-тивность дает возможность сохраняться и продолжаться философии. У обыденной философии есть один плюс – живость интереса, хотя последний и не всегда является последовательным и долгосрочным. Ключевой момент – не академическая аффилиация или ее отсутствие; важно качество продукта, качество философского произведения.
Отметим наличие переходных форм философии, когда академический автор высту- пает перед внешней аудиторией, ориентирован на нее. Примером могут служить выступления К. Ясперса на радио после второй мировой войны, публикации Б. Рассела для широкой публики и вообще публицистическая деятельность философов. Интересен пример Н.А. Бердяева, совершенно неуниверситетского и вольного автора, который, однако, долгие годы издавал журнал «Путь» по самым высоким академическим стандартам. Тем самым границу между академической и неакадемической философией в разные эпохи и в разных странах и регионах можно и нужно определять конкретно.
Институциональные «среды» сами по себе далеко не всегда способствуют появлению или существованию живой философской мысли, хотя и не препятствуют ей. Они лишь задают соответствующий контекст. Институционализация философии должна осуществляться осторожно. По сути, речь идет об институциях и формах, в которых не теряются содержание и подлинность.
Философия – строгое мышление, и она должна иметь «школу». Как отмечал А.И. Пига-лев: «Многие думают, что философия – это такой свободный дискурс. Когда можно просто свободно говорить обо всем на свете и высказывать свое “мнение”. Я впоследствии студентам всегда говорил, что если вы изучаете философию, то это все равно, что изучать музыку. То есть вы не можете играть на скрипке, не потратив годы на то, чтобы научиться играть на этом инструменте. Точно так же философия требует владения определенной техникой мышления. <...> Без этой техники все будет очень “рыхло” и совершенно непрофессионально» [Пигалев, Карчагин 2022, 8].
Яркая фигура «любителя», противопоставленная современному «эксперту» и «профессионалу», в относительном недавнем эссе Э. Мерифилда [Мерифилд 2018] не противоречит нашим утверждениям как минимум в силу этимологического смысла термина «философии». Философ всегда «любитель». И одновременно с этим философ должен быть «мастером»2. «Снятие противоположности между любителем и профессионалом осуществляется в понятии “ мастер ”, которое соединяет в себе достоинства того и другого.
-
<…> Философский факультет может гарантировать профессионализм, но не может гарантировать мастерства» [Пигров 2006, 117]. В этом смысле всякий истинный философ всегда «мастер».
Итак, философскую деятельность можно разделить на основании качества на следующие виды: низкое обыденное; высокое обыденное (в том числе в рамках других профессий); низкое профессиональное; высокое профессиональное; низкое любительское; мастерское любительское [Карчагин 2007, 68].
Все остальное, называющее себя философией, подпадает под термины «псевдофилософия» и «парафилософия».
В любом случае мастерское дело философии может совершаться как внутри, так и вне академии. Настоящая философия сродни известному евангельскому выражению «дышит, где хочет», может существовать в любых, в том числе институциональных, условиях. Однако она не может изменять фундаментальному принципу ориентации на Истину и другие философские ценности – Добро и Красоту. Подлинная философия питается от обыденной почвы и имеет интеллектуальную строгость «академии». Главный «рецепт» подлинной философии внутри и вне академической институционализации, в том числе и в «популярной» форме, заключается в сохранении высокого качества философского содержания.
При подготовке философов, при изучении философии и при популяризации философии необходимо учитывать, что философия есть особая интеллектуальная традиция, кристализиро-ванная и материализованная прежде всего в текстах. Но поскольку философия – это не любые тексты, а философские, то и обсуждение должно осуществляться с учетом принципов и содержательных признаков философии.
Если стоит задача качественной подготовки подлинных деятелей философии, то есть только один способ ее решить: сочетать чтение и изучение первоисточников с самостоятельным написанием текстов. В частности, именно так решалась задача подготовки первых советских философов философского отделения Института красной профессуры сра- зу после Октябрьской революции. Эта подготовка длилась три года и состояла в изучении иностранных языков, проработке первоисточников и публикации самостоятельного исследования. Слушатель философского отделения ИКП (Институт красной профессуры) Г.И. Григоров рассказывал об этом так: «Меня включили в философский семинар Л.И. Аксельрод. Мы работали над подлинниками классиков философии. После досократиков изучали Платона, Аристотеля, Эпикура, Лукреция Кара, средневековых схоластов и теософию. Затем перешли к изучению английских и французских материалистов, Декарта, Спинозы и всей немецкой школы. У нас не было лекционной системы. Мы сами готовили доклады по тому или другому философу и зачитывали их на семинаре. Вокруг доклада обменивались мнениями, были горячие споры. Заключительное слово принадлежало руководителю семинара, он оценивал степень научности разработанной темы. Я разработал тему “Свобода и необходимость в философской системе Спинозы”» [Корсаков 2022, 88]. Изучение настоящей философии возможно через чтение трудов настоящих философов.
Классики не сомневались в возможности приобщения к философии самого широкого круга людей. Однако это приобщение не должно происходить стихийно. Вот, к примеру, практические советы по развитию в себе философского начала К. Ясперса: «Первое: участие в научных исследованиях . Оно уходит своими корнями в естественнонаучное знание и филологию и разветвляется в трудно обозримое разнообразие научных отраслей. Благодаря научному опыту, применяемым методам и критическому мышлению приобретается научная позиция, являющаяся необходимой предпосылкой для истинности в философствовании.
Второе: изучение великих философов . Чтобы прийти к философии, нужно пройти путь через ее историю. Этот путь для отдельного человека есть как бы восхождение вверх по стволу великих оригинальных сочинений. Однако это восхождение удается только в том случае, если опирается на изначальный импульс, который исходит из моего присутствия в настоящем, на собственное философствование, пробуждающееся в процессе изучения.
Третье: повседневная добросовестность в том, как я провожу свою жизнь , серьезность принимаемых решений и принятие на себя ответственности за то, что я сделал и узнал из опыта» [Ясперс 2000, 150].
Таким образом, необходимый уровень или философское мастерство связаны с самостоятельным исследованием, рациональной подготовленностью, вписанностью в традицию и вниманием к практической стороне жизни, то есть этической рефлексией. Можно ли эти принципы реализовать вне академической системы? Очевидно, можно.
Заключение
Итак, философия существует в нескольких формах. Если «отсчитывать» от повседневного уровня, то первая ее форма – это философия «кухонная», обывательская, житейская. Далее человек может сталкиваться с философией на «школьной» скамье: в старших классах школы, в среднеспециальных и высших учебных заведениях. Этот второй вид – «школьная» философия. И это одновременно первая разновидность академической философии. Третья форма философии – это подлинная, настоящая философия, которая может быть «профессорской», академической в буквальном значении, но не сводится к ней.
Итак, для нас нет вопроса, какую именно философию нужно популяризировать. Это должна быть качественная философия. Ее необходимость мы видим в том, что в разрушающейся академии, в ситуации «руинирова-ние» Университета философия вынуждена выходить за эти рамки. Опасность и главный вызов для нее – утрата подлинности, потеря сущности философии, производство и распространение под видом философии в лучшем случае бесполезных, а в худшем случае вредных суррогатов.
Тем не менее для подлинной и качественной неакадемической философии есть все возможности развиваться и сегодня. Противостоять этой опасности можно через обращение к чтению первоисточников и производство самостоятельных философских суждений в любой форме и в любом формате без утраты подлинного ядра и содержательного корня философии.