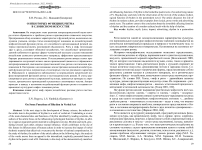О некоторых функциях ритма в словесном искусстве
Автор: Рогова Евгения Николаевна, Яницкий Леонид Сергевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
На очередном этапе развития литературоведческой науки авторы статьи обращаются к проблеме ритма в произведении словесного искусства. Предпринимая обзор основных характеристик и функций ритма, выделенных ведущими учеными, авторы статьи концентрируют внимание на воздействующей мифологической функции ритма, его способности организованный речевой материал противопоставлять разговорной обыденности. Ритм и миф, тяготеющие друг к другу, усиливают обоюдное воздействие, что способствует применению данной особенности в разных сферах человеческой культуры с целью повышения воздействия словесного ритмического материала, эффективно преодолевающего барьеры рационального осмысления. В исследовании ритма авторы статьи придерживаются следующей логики: анализ произведений движется от обращения к интериоризованной, имплицитно представленной теме ритма в поэтическом произведении Б. Пастернака к исследованию демонстративно явленной воздействующей функции ритма в пограничных стихотворных текстах рекламного характера В. Маяковского и завершается наблюдением за возрождением архаической мифологизированной функцией ритма в постмодернистском романе. В статье рассматривается роль ритма в современной культуре, приводятся примеры из лирических, прозаических произведений и рекламных стихотворных текстов. Авторы приходят к выводу о неизменно воздействующей функции ритма и создании современного культурного мифа с помощью ритма.
Ритм, миф, лирика, воздействие, реклама, ритм в постмодернистском тексте
Короткий адрес: https://sciup.org/149141353
IDR: 149141353 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-28
Текст научной статьи О некоторых функциях ритма в словесном искусстве
Ритм является одной из основополагающих характеристик культуры, его первоначальное культурно-мифологическое значение основывается на ритмически повторяющихся процессах в природе и человеческом теле, то есть на уровнях макрокосма и микрокосма. Остановимся на основных положениях теории ритма.
Историко-этнографические исследования позволяют предположить, что поэзия выделилась из обряда, первоначального единства музыкальных искусств, примитивной хоровой первобытной песни [Веселовский 1989, 82], из которого постепенно выделяются музыка, слово, танец и драматическое представление. Связь ритмических форм с музыкой сохраняет не только античное искусство, средневековая поэзия и народная песня. Современная поэзия наследует метрические формы, представляющие собою результаты слияния музыки и словесного материала, но и ритмическую функцию обряда - воздействия, вовлечения в своего рода магическое пространство. По словам В.И. Тюпы, «миф и ритм - древнейшие аспекты культуры, далеко предшествующие искусству слова. Их сопряжение - ритмизация мифа, мифологизация ритма - явилось эстетической предпосылкой всякой эстетической деятельности» [Тюпа2001, 102].
На уровне ритма находит выражение ряд базовых мифологем всех мифологических систем: «жизнь - смерть» и «жизнь - смерть - воскресение». С этими мифологемами связано и ритмическое чередование космоса и хаоса как одного из важнейших мифологических мотивов: «...двойное свойство ритма - изменчивость и постоянство - ведет к тому, что именно ритм в состоянии выражать наиболее универсальное представление о бытии, в состоянии интерпретировать бытие в двух аспектах одновременно -в изменении и постоянстве» [Фарино 2004, 466].
Ритм является культурной универсалией, присущей различным феноменам культуры, как архаическому мифу, так и лирике, прозе, современной рекламе (реклама, впрочем, и представляет собой современный миф, а рекламные слоганы и тексты - своего рода заклинания), музыке, живописи и архитектуре и т.д. В силу того, что звуко-ритмическое воздействие на сознание человека с целью привлечения внимания лежит в основе любой коммуникации (искусство, религия, политика, психология, реклама и т.д.), данная проблема обуславливает интерес ученых разных сфер (М.Л. Гаспаров, М.М. Бахтин, А.А. Потебня, М.М. Гиршман, Ю.Н. Тынянов, Е. Шкловский, Е. Фарино, К. Колдуэлл, Ю.В. Шатин, Б.С. Алякринский,

В.М. Бехтерев, С.В. Болтаева, Ж.А. Дрогалина, В.В. Налимов, И.Ю. Черепанова, Е.С. Морилова и др.).
М.М. Гиршман, рассуждая о функции ритма в поэзии, опирается, в частности, на следующие высказывание К. Колдуэлла: «Поэзия ритмична <.. .> Поэзия в своем использовании языка постоянно искажает и отрицает структуру реальности, чтобы возвысить структуру “я”. Посредством ритма, созвучия или аллитерации она сочетает вместе слова, которые не имеют разумной связи, то есть не связанные через посредство мира внешней реальности. Она разбивает слова на строки произвольного размера, пересекая их логические конструкции <...>. Таким образом, мир внешней реальности отступает на задний план, а мир инстинкта, эффективная эмоциональная связь, скрытая за словами, вырастают до видимой и становятся миром реальности. Субъект появляется из объекта <...>» [Гиршман 1982, 273]. Ритмически организованный речевой материал противопоставляется разговорной обыденности. Упорядоченность стиха, его повышенная ритмичность, например, для ранних литературных эпох, выполняла функцию выделения стихотворного произведения из ряда текстов, не принадлежащих к искусству, что ассоциировалось с красотой и совершенством. Ритм интернализуется в воспринимающего, вбирая в ритмизованную реальность: «Если ритм интернируется в нас, т.е. завладевает нами, то само собой разумеется, что он, перестраивая наше поведение, переводит нас в иное измерение, в иную плоскость, единственной нашей реальностью становится реальность, вызвавшая этот ритм источника. Благодаря ритму мы попадаем в то измерение, в котором протекает художественное произведение. На этом уровне воспринимающий попадает в позицию субъекта текста, а коммуникация с другим (текстовой субъектностью) трансформируется в автокоммуникацию» [Фарино 2004, 470].
Ритм как повторение каких-либо элементов текста через определенные промежутки может быть рассмотрен в качестве неотъемлемой характеристики художественной речи. В стихе ритмический фон, на котором ощущаются ритмические повторы, чаще всего постоянен и единообразен, а в прозе он намечается особо в каждом фрагменте. Прозаическая художественная речь тоже членится на предложения, абзацы, периоды, колоны, свойственные и разговорной речи, но это членение в прозе облает определенной упорядоченностью. Повышенная ритмизация, звуковые и словесные повторы вместе с тем характерны и для прозы, например, «Мертвых душ» Н.В. Гоголя, «Петербурга» А. Белого, «Письмовника» М. Шишкина, «Романа» В. Сорокина, «Улисса» Дж. Джойса, поэтому в рамках разговора о своеобразии звуковой формы в прозе и в поэзии, как пишет А.А. Потебня, следует исходить из особенности способа познания, мышления в них: «Каково бы ни было, в частности, решение вопроса, почему поэтическому мышлению более <...>, чем прозаическому, сродна музыкальность звуковой формы, т.е. темп, размер, созвучие, сочетание с мелодией, оно не может подорвать верности положений, что поэтическое мышление может обходиться без размера и прочего, как, наоборот, прозаическое может быть

искусственно, хотя и не без вреда, облечено в стихотворную форму <.. .>» [Потебня 1990, 149]. У прозы и у поэзии разные цели, именно из этого нужно исходить, выстраивая разговор о разности ритма в них.
М.М. Гиршман говорит о том, что ритм - это не просто форма, а прежде всего становление, развертывание формы, переход в рамках организованной целостности от порядка к неупорядоченности и обратно. Если ритм есть нарушение фона, то движение ритма в прозе и в поэзии осуществляется нарушением упорядоченного, относительно неупорядоченного и абсолютно неупорядоченного фона. В зависимости от интенции автора ценностно значимым может быть и нарушение порядка, и его возникновение. М.М. Гиршман предлагает изучать становление ритмического единства, связанного с изображением мира, в «динамике устойчивых признаков и в выразительной изменчивости в обе стороны от этих устойчивых признаков» [Гиршман 1982, 285]. Ритмическая упорядоченность, «искусственные ограничения» в художественном произведении способствуют повышенной содержательности словесных единиц, помещенных в единый контекст: «<...> общий принцип стихотворной речи - повышенная активизация всех уровней текста, которая покупается ценой искусственных ограничений и делает текст особо информативно емким. Именно поэтому поэтические тексты так хорошо запоминаются наизусть: мы ощущаем, что в них каждое слово глубоко значимо. Поэзия является для нас образцом бесконечно насыщенной смыслом речи, которую можно без конца перетолковывать» [Зенкин 1990, 149].
Мифологическое восприятие мира характерно для человека, и хотя мы живем «в секуляризованном, или “расколдованном” мире <...> несмотря на продолжающийся научно-технический прогресс, в современном человеке присутствует архаичная склонность к ритуализации своей жизни, к созданию так называемых “современных мифов”» [Баташева 2014, 28]. Ритм и миф, тяготеющие к друг другу, усиливают обоюдное воздействие, этот эффект используется в политике, педагогике, психологии, психотерапии, искусстве, религии и рекламе. Результат восприятия не гарантирован, зависит от ряда сопутствующих процессу восприятия рекламного текста условий, но вместе с тем символизация ритмического материала значительно облегчает нервно-психическую деятельность по обработке и сохранению полученной информации в разных направлениях. Ритмический текст воспринимается как магический, устанавливающий важнейшие параметры бытия, предписывающий определенные ценности и действия. С ритмическим текстом труднее спорить, он эффективнее обходит барьеры рационального осмысления. Восприятие ритмического текста вызывает специфическое удовольствие от ритма. Цель ритмизации рекламного текста - оказание влияния на сознание целевой аудитории и облегчение его запоминания; ритмизованная форма более органична для формирования мифологизированной картины мира, усиливающей суггестивность коммуникации.
Предпримем анализ стихотворного рекламного текста, а затем лириче-

ского и прозаического произведений с целью выявления функции ритма в современном тексте и специфики его воздействия. С целью демонстрации специфического ритмического функционирования в лирике, прозе и пограничных текстах, являющихся, по сути, рекламой, мы обращаемся: к образу ритма, имплицитно представленного в стихотворении Б. Пастернака; стихотворным рекламным тестам В. Маяковского, в которых воздействующая функция максимально проявлена и подчеркнуто демонстративна; и к постмодернистскому роману В. Сорокина «Роман», ритм которого выступает скрепляющим фундаментом, основой для мифологемы «жизнь -смерть - воскресение».
О влиянии на сознание человека ритмов внешнего мира хорошо известно, это связано со способностью человеческого мозга синхронизироваться с ритмами, улавливаемыми органами чувств. В произведениях искусства, в частности, в стихотворных текстах, ритм выполняет важную функцию, как уже говорилось выше, его цель - перенести воспринимающего в мир переживаний лирического субъекта, создать соответствующее настроение, отгородить от обыденности, породить эстетическую эмоцию. Ритмическая композиция способствует организации словесного материала, соответствующего авторской интенции, связанной с формированием определенной эстетической целостности, слова приобретают благодаря ритму и тесноте стихового ряда контекстуальные смыслы, значимые в развитии лирического сюжета. Обратимся к анализу лирического произведения, имплицитно содержащего образ и тему ритма, связанные с ритмической композицией произведения и переплетенные с мифологическими коннотациями.
В стихотворении Б. Пастернака «Пиры» появляются образы, связанные с ритмом и созданием стихотворения:
Наследственность и смерть - застольцы наших трапез.
И тихою зарей - верхи дерев горят -
В сухарнице, как мышь, копается анапест,
И Золушка, спеша, меняет свой наряд [Пастернак 1990, 172].
Ритм в стихотворении оказывается архитектонически ценностей, заложенное в нем чередование связано с созданием поэтического текста. Образ мыши несомненно обладает мифологическим смыслом: «Мифологический мотив превращения женщин в мышь определенно реконструируется на основе фольклорных данных, в частности на основе сказочного мотива превращения ведьмы (женщины, девицы) в мышь (ср. также мотив превращения дьявола или человека в мышь и, наоборот, превращения мыши в человека» [Топоров 1992, 190]. В сказке кони, которые везут карету Золушки, были мышами и вновь превращаются в мышей. Т. Венцлова пишет по поводу образа мыши в стихотворении Б. Пастернака следующее: «Вероятно, самая запоминающаяся строка пастернаковского стихотворения - В сухарнице, как мышь, копается анапест. Она поражает свеже- стью: другого такого олицетворения стихотворной формы, возможно, нет в русской поэзии. Однако секрет воздействия строки еще и в том, что мотив мыши отличается семантической архаичностью и глубиной. В тексте мышь связана с Золушкой (их роднит серый цвет - цвет золы, быстрое убегание, ускользание; отметим, что в сказке Перро карета Золушки запряжена мышами)» [Венцлова 2012, 41]. Отметим также, что мышь в стихотворении сравнивается не с тем размером, которым оно написано, а с анапестом, трехстопным размером, символически соответствующим мифологеме «жизнь - смерть - воскресение», где воскресение является самой важной, акцентированной частью. Создание стихотворения мыслится как пир, жертвоприношение, где «застольцами» являются «наследственность и смерть»: «Исчадья мастерских» напоминают об исчадиях ада, то есть дьяволах, и этот образ указывает на царство мертвых, через которое проходит, рождаясь, поэтическое слово. Ночной пир заканчивается с рассветом, который символизирует рождение новой жизни. Образ пира обладает мифопоэтическим значением, по мысли О.М. Фрейденберг, «еда - центральный акт в жизни общества - осмысляется космогонически; в акте еды космос (=тотем, общество) исчезает и появляется» [Фрейденберг 1997, 64].
Звучание стихов в тексте сопоставляется с дыханием («Как детский поцелуй, спокойно дышит стих»), рыданием («Рыдающей строфы сырую горечь пью») как ритмическими процессами. Определенный ритм прослеживается и в жизни самой Золушки:
И Золушка бежит - во дни удач на дрожках,
А сдан последний грош, - и на своих двоих.
С точки зрения традиции, возможно, Б. Пастернак использует метрический семантический ореол ямба, который, по наблюдению М.Л. Гаспарова [Гаспаров 2000, 34], приобретает в русской лирике ассоциации с темами движения, прозрения, смерти.
Обратимся к творчеству В.В. Маяковского, который был одним из отечественных авторов, последовательно создающим рекламные стихотворные тексты. Уже в раннем творчестве поэта появляются рекламные слоганы:
Хорошо, когда брошенный в зубы эшафоту, крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!» [Маяковский 1955-1961,1, 186].
Поэт является создателем коммерческой, политической, социальной рекламы. В многочисленных рекламных текстах В.В. Маяковского создается миф о сверхчеловеке нового государства, обладающем возможностями пользоваться лучшими продуктами и товарами, укрепляющими его силу и исключительность.
Ритм и мифологическая составляющая приведенных фрагментов разворачиваются в соответствии с оптимальными свойствами суггестивности. Названия объектов рекламы рифмуются и запоминаются, укореняются в памяти благодаря метафоре и ритму, звуковым повторам, формируется мифологический образ героического современного советского человека, потребляющего исключительные по своим свойствам товары:
Не могу не признаться: Лучший шоколад Абрикосовый №12. Нет нигде кроме -Как в Моссельпроме [Маяковский 1955-1961, V, 289].
Происходит ритмизация мифа о прогрессивности и качественности всего издаваемого и производимого в новом государстве:
От критики старых дев -Защищайте «Леф».
Хорошая книга!
А то с какой стати -стали б плохую издавать в Госиздате! [Маяковский 1955-1961, V, 253].
В рекламных стихотворных текстах В.В. Маяковского формируется миф о мощной сверхдержаве, противопоставляющей себя мировому империализму. В тексте для упаковки печенья «Красный авиатор» развивается миф о государстве, вселяющем повсеместный ужас совокупному мифическому врагу:
Рассыпайся по кустам, Вражеская конница. За тобою здесь и там Авиатор гонится.
Уползай под стол, рыча, Генералов нация. Подымайся на плечах, Наша авиация.
Мы везде проводим мысль,
Даже в деле лакомств:
Если нашей станет высь,
Враг полезет раком [Маяковский 1955-1961, V, 304].

В нижеприведенном тексте реклама звучит как магическое заклинание, призывающее «уличное течение» замереть, остановиться:
Остановись, уличное течение!
Помните: в Моссельпроме лучшее печенье! [Маяковский 1955-1961, V, 307].
Еще один ритмизованный призыв-заклинание возникает у В. Маяковского в рекламе папирос:
Стой! Ни шагу мимо!
Бери папиросы
“Прима" [Маяковский 1955-1961, V, 268].
Разбитая на части строка выделяет название товара, написанное к тому же курсивом, так имя привлекает особое внимание аудитории рекламного послания, а императив способствует формированию установки на беспрекословное выполнение действия. В 1923 г. в статье «Агитация и реклама» В. Маяковский пишет: «Реклама - это имя вещи. Как хороший художник создает себе имя, так создает себе имя и вещь» [Маяковский 1955-1961, XII, 58]. Здесь удачно выражается именно мифологическая функция рекламы, наделяющая вещь именем, неразрывно связанным с ее сущностью.
Мотив необыкновенного, чудесного, мифического по своим чудесным непревзойденным свойствам советского товара развивается в стихотворных рекламных текстах В.В. Маяковского повсеместно:
Раз поешь этих макарон, -и ты навсегда покорен.
Этого чуда нет нигде, кроме как в Моссельпроме [Маяковский 1955-1961, V, 308].
В рекламных текстах В.В. Маяковского развивается усиленный ритмически миф о волшебном качестве производимых товаров в новом государстве, в котором живет непобедимый супергерой (они не изнашиваются):
- Ничего! -
Ответил Клим. -
Мой подарок - стойкий.
Из резины слажу им
Каблуки-набойки.
Не пробьет их пистолет,
Не разносишь в триста лет [Маяковский 1955-1961, V, 331].
Подобно волшебным хлебам в волшебной сказке, монпасье Моссель-прома никогда не заканчивается:
Я пью чай
-
с монпасьем -
на стакан и одно не съем [Маяковский 1955-1961, V, 289].
Гребень, который производит «Резинотрест» из рекламной поэмы В.В. Маяковского, обладает мифической силой, может приворожить представителей противоположного пола:
-
- Ну, старшая из невест,
Вот тебе
Гребенка. -
Лягут волосы верней, хороши собою.
И не будет от парней никогда отбою [Маяковский 1955-1961, V, 330].
О том, что сознание современных людей мифологично, что миф историчен, и несет отпечаток конкретного времени, и пронизывает массовую культуру и рекламу, пишет еще Р. Барт в «Мифологиях». Р. Барт говорит о мифе как коммуникации, связанной с социальным контекстом, по его мнению, мифом может быть все, так как мир «бесконечно суггестивен»: «<...> можно допустить, что бывают мифы очень древние, но никак не вечные, ибо только человеческая история превращает действительность в слово, она и только она властна над жизнью и смертью мифического языка» [Барт 2008, 266]. Об изменчивости мифов и их содержании говорит и К.Г Юнг [Юнг 1994, 9], который в современной мифологии видит объединение научного знания и непонятных для человека явлений, потребности в духе, одухотворенной жизни и проявление коллективного бессознательного. Находясь в мире кажимостей, порожденных современными СМИ, человек неизбежно прибегает к мифу, так как он по самой своей природе «существо, априорно нуждающееся в мифологии и религии, которые можно рассматривать не только как формы культуры и сознания, но и в определенном смысле как своеобразные механизмы, благодаря которым сознание работает правильным образом. Соответственно, когда в процессе секуляризации человек отказывается от мифа и объясняет его исключительно как вымысел, он в результате изобретает иные формы мифа, как правило, более примитивные» [Баташева 2014, 30].
Ритм в художественном тексте воплощает в себе не только идею чередования, но и идею противопоставления, конфликта как источника развития, в нем противопоставлены маркированные и немаркированные единицы. Ритм лежит в основе целостности лирического произведения, он скрепляет текст, не давая ему распасться, на мифопоэтическом уровне утверждает победу порядка над хаосом. Признаком художественного в поэтическом языке, по мнению В.Б. Шкловского, является выведение материала с помощью ритма, его непредсказуемых «нарушений», из автоматизма восприятия, которое «задерживается и достигает возможно высокой своей силы и длительности <...> своей непрерывности» [Шкловский 1925]. В этой связи необходимо заметить, что, с точки зрения ученого, непредсказуемость нарушения ритма на фоне существующей традиции является непременным условием восприятия художественного в поэтической речи: «<.. .> если это нарушение войдет в канон, то оно потеряет свою силу затрудняющего приема» [Шкловский 1925]. Ю.В. Шатин, выделяя две основные тенденции версификации в русском стихосложении (построенные соответственно на удержании ритма в пределах метрической композиции и на сознательном разрушении метрической схемы), утверждает, что в стихе XXI в. «отказ от метра перестал восприниматься как экзотика, а выступил в функции минус-приема, сигнализирующего о переходе текста от системы к ризоме» [Шатин 2016, 35].
Предпримем теперь анализ значения ритма в другой эпохе, другой художественной парадигме, прозаическом постмодернистском тексте В. Сорокина «Роман». Из «Романа», представляющего собою деконструкцию стилей классического романа, к финалу произведения постепенно исчезает разноголосица, характерная для прозы. Заключительные страницы романа в результате использования на десяти страницах однотипных простых нераспространенных предложений, приобретают ритмичность, характерную для ритмизованной прозы, в которой благодаря повтору глагольных окончаний появляется рифма: «Роман пополз. Роман остановился. Роман пополз. Роман остановился» [Сорокин 2002, 635].
М.М. Бахтин, обращаясь к проблеме ритма, противопоставляет поэтическое и прозаическое произведения: «<...> ритм поэтических жанров не благоприятствует сколько-нибудь существенному расслоению языка. Прозаик-романист принимает разноречие и разноязычие литературного и вне-литературного языка в свое произведение» [Бахтин 1975, 109-111]. Слово в конце «Романа» В. Сорокина становится монологичным, экспрессивным, фразы ритмичными, действия героя напоминают действия автомата, являются примитивными, повторяющимися. На последних станицах текста количество слогов постепенно уменьшается от 10-9-8-7 до 4-3 слогов. Последняя фраза романа В. Сорокина является ритмически закономерной: на фоне чередования двусложных и трехсложных слов, ямбического метра («Роман остановился... Роман перевернулся... Роман понюхал пол... Роман потрогал зубы... Роман пошевелил») и хореического («плюнул», «стукнул», «хлопнул», «вздрогнул») появляется единство слогов, пред- ставляющих собою стопы ямба и хорея: «Роман умер» [Сорокин 2002, 635]. Разрушение стилей, жанра, связанных с конкретной художественной картиной мира, деконструкция классического литературного произведения находит свое выражение в финале «Романа» в ритмической динамике текста, использовании двусложного ритма.
В символическом плане в «Романе» В. Сорокина происходит переход к архаическим структурам языковых высказываний, движение к литературным истокам, вспять, от сложных сюжетной и композиционной форм романного жанра к примитивной ритмической прозе с сюжетом и композицией, имитирующими, по сути, обрядовое действо. В.И. Тюпа, характеризуя этапы формирования высказывания, говорит следующее: «<...> ритмическая и хронотопическая организации высказывания зародились еще на ритуально-мифологической стадии культуры. Они несут в себе импульсы значений, уходящих корнями в коллективное бессознательное человеческого духа...» [Теория литературы 2004, 33]. В «Романе» В. Сорокина мы имеем дело с последовательным разрушением традиционного сюжета, субъектной организации произведения, деконструкцией сковывающих повествовательных структур; появляющийся стихотворный ритм, далее уже не разложимый, - единственное, что остается в финале текста, символизируя основы и истоки бытия. Роман как жанр не разрушается, а в зеркале иронии «кристаллизуется», возрождается во всей динамике векового развития, в этом смысле можно говорить о развитии в романе В. Сорокина мифологемы «жизнь - смерть - воскресение».
Предприняв анализ лирического, а затем рекламного текста и, наконец, прозаического постмодернистского текста, мы обнаружили, что в них ритм обладает смыслами, связанными с его созданием и существованием, ритм во многом определяет онтологический статус текста. Стихотворный текст, созвучный современной эпохе, сочетаясь с мировосприятием современного человека, формирует новые мифы и совершает это в ритмизованной форме. Текст стихотворения, текст рекламного сообщения - это своего рода ритмизованные заклинания культуры, творящие современный культурный миф. Ядром и скрепляющим началом прозаического постмодернистского ризоматичного текста остается мифологизированный ритм. Мифоритмический уровень литературного произведения на новом этапе развития культуры остается организующим фундаментом художественного текста, выступающим основой его восприятия и воздействия.
Список литературы О некоторых функциях ритма в словесном искусстве
- Барт Р. Мифологии. М.: Академический проект, 2008. 351 с.
- Баташева Э.А. Влияние мифа и мифологического мышления на сознание современного человека // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Раздел «Философские науки». 2014. № 12(50). Часть 2. С. 28–31.
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. 502 с.
- Венцлова Т. Собеседники на пиру. Литературоведческие работы. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 624 с.
- Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. 648 с.
- Гаспаров М.Л. Метр и смысл. Об одном механизме культурной памяти. М.: РГГУ, 2000. 289 с.
- Гиршман М.М. Ритм художественной прозы. М.: Советский писатель, 1982. 368 с.
- Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. Теория литературы. М.: РГГУ, 2002. 86 с.
- Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: в 13 т. М.: ГИХЛ, 1955–1961.
- Пастернак Б. Стихотворения. Поэмы. Переводы. М.: Правда, 1990. 544 с.
- Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М.: Высшая школа, 1990. 344 с.
- Сорокин В. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 2. М.: Ад Маргинем, 2002. 861 с.
- Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 1. Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. М.: Академия, 2004. 512 с.
- Топоров В.Н. Мышь // Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 1992. Т. 2. С. 190.
- Тюпа В.И. Аналитика художественного. М.: Лабиринт, РГГУ, 2001. 192 с.
- Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. 639 с.
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. 448 с.
- Шатин Ю.В. Ритм как система и как феномен. Два способа интерпретации русского стихотворного текста // Критика и семиотика. 2016. № 1. С. 26–35.
- Шкловский В. Искусство как прием // Шкловский В.Б. О теории прозы. М.: Круг, 1925. С. 7–20.
- Юнг К.Г. Проблема души нашего времени. М.: Прогресс, 1994. 336 с.