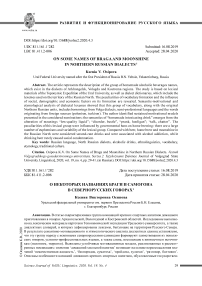О некоторых названиях браги и самогона в севернорусских говорах
Автор: Осипова Ксения Викторовна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 4 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье охарактеризована группа номинаций крепких спиртных напитков домашнего приготовления в говорах Архангельской, Вологодской и Костромской областей. Исследование выполнено на лексическом материале картотеки Топонимической экспедиции Уральского университета, а также диалектных словарей, в которых зафиксированы лексемы, бытующие на территории Русского Севера. В результате семантико-мотивационного и этимологического анализа диалектных единиц установлено, что эту группу наряду с исконными севернорусскими единицами формируют заимствования из поволжских говоров, условно-профессиональных языков, а также слова, восходящие к иноязычным источникам (полонизм, тюркизм). Выявлены устойчивые мотивационные модели, реализованные в рассмотренных номинациях: значение ‘домашний хмельной напиток’ возникает на основе переосмысления значений ‘некачественная жидкость’, ‘беспорядок, суматоха’, ‘пройдоха, хулиган’, ‘разговор, болтовня’. Описаны особенности названий домашних крепких спиртных напитков, обусловленные государственными запретами на домашнее самогоноварение: большое количество эвфемизмов, многочисленность и вариативность номинаций. На основе примеров использования слов, называющих крепкие спиртные напитки, показано, что в локальной культуре Русского Севера брага и самогон, в отличие от пива, считались напитками второго сорта, их употребление ассоциировалось с пьянством и вызывало социальное осуждение.
Русский язык, севернорусские говоры, спиртные напитки, этнолингвистика, лексика, этимология, традиционная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/149131579
IDR: 149131579 | УДК: 811.161.1’282 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2020.4.3
Текст научной статьи О некоторых названиях браги и самогона в севернорусских говорах
DOI:
В 2008 г. было опубликовано масштабное исследование Г.Ю. Багриновского «Энциклопедический словарь спиртных напитков» (Багриновский, 2008), в котором собрано, систематизировано и снабжено историко-лингвистическими комментариями более 3 500 наименований. Эта необычайно многочисленная группа объединила в себе лексические единицы, принадлежащие разным подъязыкам и слоям культуры: говорам и народной культуре, арго и традиционно-профессиональной культуре, просторечию и «третьей» культуре, литературному языку и (согласно терминологии Н.И. Толстого) элитарной культуре [Толстой, 2013, с. 8]. Изучение указанной лексической группы особенно продуктивно в историко-филологическом аспекте с точки зрения происхождения лексических единиц и языковых влияний – не только внешних (иноязычных) контактов, но и внутренних, например проникновения арготической лексики в русские говоры, просторечия в литературный язык, книжных лексем в разговорную речь. При этом естественным образом возникает необходимость проследить судьбу «слов и вещей» («Wörter und Sachen»): сохранение или утрату традиционных способов приготовления напитков и их названий, а также появление новых наименований в связи с употреблением новых хмельных напитков и их переходом из одной субкультуры или субъязыка в другой культурно-языковой слой.
В статье данная группа лексики рассматривается в региональном аспекте с целью охарактеризовать опосредованное отражение в семантике языковых единиц локальной севернорусской традиции приготовления и потребления хмельных напитков.
Материал и методы исследования
Объектом исследования стали названия браги и самогона, отмеченные на территории Архангельской, Вологодской и Костромской областей, где на протяжении многих лет лексический материал собирали участники Топонимической экспедиции Уральского университета. Основным источником севернорусских данных послужили картотеки, хранящиеся на кафедре русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского университета (КСГРС; ЛКТЭ), а также региональные лексикографические издания (АОС; СВГ; СГРС; и др.).
Методика семантико-мотивационной реконструкции, разработанная учеными Уральской школы ономастики, этнолингвистики и этимологии (см., например: [Березович, 2014; Леонтьева, 2015]), позволяет не только охарактеризовать происхождение слов, их семантические связи и этапы формирования значений, но и реконструировать пласт связанных с ними народных представлений.
Для исследователя локальной традиции группа наименований хмельных напитков интересна с точки зрения путей ее формирования, поскольку в нее входят как исконные единицы, сохраняющие архаические черты, так и названия, пришедшие извне – из других разновидностей одного языка (литературного языка, просторечия или жаргона) или других языков. Такие заимствования – это результат влияния на язык многих социально-демографических и экономических факторов: межэтнические контакты, контакты с жителями более южных территорий, особенности производства или поставок нелегального алкоголя, государственные запреты на продажу алкоголя и др.
Данная статья завершает серию наших публикаций, посвященных этнолингвистическому анализу севернорусской лексики пивоварения и наименований крепких алкогольных напитков [Осипова, 2017; 2018].
Результаты и обсуждение
На Русском Севере брага считалась напитком более низкого качества, чем пиво. Иногда брагой называли пиво, сделанное дома в корчагах ( корчажная бражка ) в отличие от настоящего пива, которое варили коллективно в больших котлах (сольвыч. котловое пиво ) (Тенишев, с. 498–499). Как и пиво, брага готовилась путем варки, о чем напоминают многие названия с корнем - вар -, ср.: арх. варя (СРНГ, вып. 4, с. 63), перевáра : «Бьет челом и встречает княгиня молодая. Хлебом, солью, сладким медом и пьяной переварой» (свадебная песня) (СРНГ, вып. 26, с. 42). В Архангельской области под брагой подразумевали напиток, вторично приготовленный на основе пивной гущи, ср.: вин. другáн ‘брага’: «Из остатков пива друган делали» (КСГРС).
Варили брагу и самогон часто, поскольку это выходило проще и дешевле, чем приготовление пива: использовалось все, что оказывалось под рукой, – «отходы» от пива, сахар, зерно, хлеб, картошка, ягоды и пр. Она была вторичным напитком и по вкусовым качествам всегда проигрывала пиву и даже квасу, ср.: арх. лен. чúквас ‘брага’ (КСГРС), образованное с помощью экспрессивной приставки чи -, а также присловья: «Пей пиво, не брагу и люби девку, не бабу; Была бражка, да вышли барашки, теперь есть квас, да не про вас» (Ефименко, с. 247, 243). Если пиво пили и мужчины, и женщины, то брага и самогон считались атрибутом мужской компании. Значительно ýже был спектр их знаковых функций: брага и самогон, обладая скудной обрядовой символикой, ассоциировались преимущественно с пьянством (ср.: костром. галич. врезаться в самогóночку ‘начать пить, пьянствовать’ (СРНГ, вып. 36, с. 83)), тогда как питье пива редко вызывало социальное осуждение. Негативное отношение к употреблению алкоголя и восприятие спиртного как греха находим, например, в костром. пав. грех : носить ( давать ) греха ‘алкоголь;
носить (давать) кому-л. спиртное’: «Нельзя носить греха на кладбишше; Не давали греха детям и родителям; Будешь носить греха – в ад попадешь» (ЛКТЭ), волог. сямж. сатанá ‘самогон’: «Сатану, наверно, варят» (СВГ, т. 9, с. 94) 2. Последнее выражение сопоставимо с литературным сатанúнская кровь , сатанúнский напиток , кровь сатаны ‘водка’ (Багриновский, 2008, с. 502), отмеченными в книжном языке XIX в. (например, у А.П. Чехова, Л. Андрееева, Шолом-Алейхема). В противоположность вину, которое в библейской традиции может отождествляться с кровью Христовой, водка и другие крепкие напитки считались порождением темных сил.
Одним из самых распространенных названий хмельного напитка на Русском Севере было слово брага 3 и его производные, которые свидетельствуют о шутливо-ироничном отношении к браге и ее употреблению: арх., волог., костром. брáжка (АОС, вып. 2, с. 99), волог. баб. брагýлька , брáнька , кад. брыгýлька , костром. бращёнка (КСГРС; ЛКТЭ). Брага стала символом пьянства и безделья, ср.: брáжничать волог. ‘пить хмельные напитки, пьянствовать’ (СВГ, т. 1, с. 43), арх . плес. ‘коротать время’, онеж. ‘проводить время за едой и питьем’ (АОС, вып. 2, с. 99): «У чашников да у бражников много в году праздников (арх.)» (Ефименко, с. 249), а также символом коллективного невоздержанного поведения, ср.: арх. брáжка ‘дурная компания, ватага’: «Народ худой со-обран, бражка. Их было брашки три тыщи большие» (АОС, вып. 2, с. 99).
Мотив веселья и игры, ассоциирующийся со спиртными напитками, находит отражение в семантике глаголов гулять , играть , веселить и однокоренных с ними единиц. Связанные с представлением о жизненной энергии и «разгуле», они называют процесс брожения спиртных напитков и их способность воздействовать на организм, ср.: арх. леш. весёлое ‘спиртное’ (АОС, вып. 3, с. 162), арх., волог., костром. навеселúть ‘положить закваску в пиво’ (КСГРС; СРНГ, вып. 19, с. 160), костром. играть ‘бродить (о закваске)’ (ЛКТЭ), костром. галич. разгýльчивый ‘веселящий (о хмельном напитке)’: «Бражка пьяная – хмельная и разгульчивая» (СРНГ,
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ вып. 33, с. 318); ср. также: сиб. забалýй ‘пиво, брага’ (СРНГ, вып. 9, с. 244).
Некоторые наименования браги содержат антропоморфные образы, связанные с процессом брожения напитка. Например, мотив болтовни отразился в костром. бармýха ‘брага’: «Бармуху выпьешь и бармишь – разговариваешь не знаю чего» (шар.), сопоставимом с костром. бармúть ‘быстро или непонятно говорить’ (вохом., окт., шар.) (ЛКТЭ); общенародное наименование некачественного напитка бормотýха соотносится с гл. бормотать через цепочку семантических переходов ‘что-л. неясно сказанное’ > ‘ерунда, вздор’ > ‘некачественный напиток’. «Говорящим» или «бормочущим» представляется спиртной напиток, в котором происходит брожение, сопровождаемое образованием пузырьков воздуха, ср.: новг. бормотáть ‘бродить (о пиве)’: «А пиво-то хорошее у нас варят разваром, каменье таки горячи кладут, пока оно остепенится, не будет бормотать-то » (СРГК, т. 1, с. 97), среднеурал. говорунья ‘брага’ (ДЭИС), брюзжит, как худое пиво (Даль, т. 1, с. 133). Напротив, напиток, в котором приостановлена ферментация, определяется как «немой», ср.: немое вино ‘окуренное серой, чтобы не бродило; им подправляют вина, чтобы не кисли’ (Даль, т. 2, с. 562), а также неоднозначное в плане мотивационной интерпретации среднеурал. молчáнка ‘вид браги’: «Мы теперь брагу не ставим – молчанку. Стоит – молчит, пьем – молчим; Купи в магазине квасу да дрожжей – вот и молчанка будет» (ДЭИС). Возможно, ключ к пониманию названия кроется в контексте, указывающем на отсутствие бурного брожения, присущего браге и квасу. Кроме того, мотив болтовни отразил стереотипное представление о болтливости, вызываемой алкогольным опьянением, ср.: яросл. разговóрец ‘хмельной напиток’ (ЯОС, т. 8, с. 115), тогда как молчанка , в отличие от браги , пьется в тишине.
Основная ценность самогона и браги для крестьянина состояла в хмельном эффекте, а их вкусовые качества, несомненно, ценились ниже, чем вкус пива. Крепость, резкость вкуса и воздействие напитков на организм человека находят воплощение в таких названиях крепкой браги или самогона, как арх. котл. головолóмка ‘крепкий спиртной напиток, бра-
РУССКОГО ЯЗЫКА
га’ (СГРС, т. 3, с. 78), костром. пыщ. косо-ры´ловка ‘самогон’: «Мы звали ее косорылов-ка, самогонку-то. Очень крепкая, только выпьешь – перекосит» (ЛКТЭ), волог. баб., сок., у-куб. стенолáз ‘крепкая брага’: «Наварим бражки да не пьянеем, а молодяшка-то пьянеет от своего стенолаза» (у-куб.) (КСГРС); ср. также: волог. ник. разóрва ‘снадобья, которые приносят вред вместо пользы’, ‘какая-либо спиртосодержащая жидкость’: «Всю разорву перепили» (КСГРС). Негативное вкусовое восприятия напитка, вероятно, передается в арх. вин. дикýша ‘брага’: «Дикушу сварят, так весь поселок неделю гуляет» (СГРС, т. 3, с. 227), хотя народная версия происхождения названия связывает его с прил. дикий ‘грубый, необузданный’, то есть характеризует воздействие на психику человека.
Способность алкоголя нарушать физическую координацию нашла отражение в таких словах, как арх. прим. завалúха ‘крепкая брага’: «Завалиха с ног валит» (СГРС, т. 4, с. 22), костром. кологр. коря´жничек ‘простая сивушная водка’ (СРНГ, вып. 42, с. 42) при арх. холм. коря´жить ‘корчить, коробить, перегибать’, пск., твер. коря´житься ‘чувствовать приступы болезни’ (СРНГ, вып. 15, с. 41). Вологодское и костромское название шатýн ‘брага; крепкий самодельный спиртной напиток’: «Стопочки две выпьешь этого шатуна и ошабуришься» (тот.); «Тятя мой такой шатун делал: незаметно с ног сбивал» (чухл.) (КСГРС; Ганцовская) – интересно тем, что позволяет выявить соотношение значений ‘алкогольный напиток’ – ‘беспутный человек’, характерное для номинаций хмельных напитков. Так, наряду с шатун ‘брага’ встречается арх. карг. шатýн ‘беспутный человек’ (СРГК, т. 6, с. 843), тул. шат ‘ничем не занимающийся, лентяй’ (Опыт, с. 263).
Лексемы со значениями ‘брага’ и ‘пройдоха; лентяй’ нередко входят в одно этимолого-словообразовательное гнездо, хотя они далеко не всегда мотивационно связаны друг с другом. В этом отношении интересно рассмотреть историю костромского башалы´га ‘брага’: «Нюхательный табак в башалыгу добавляли» (ЛКТЭ), которое было единожды записано в Вохомском районе в значении ‘особо крепкий, «забористый» напиток’. Помимо наименования браги башалы´га на этой же тер- ритории известно башалы´га ‘плеть, которой муж бил жену’: «Башалыга – это плеть, хлестать женщин. Муж сплетет из трех волос и бьет жену. Это только женщин хлестать» (ЛКТЭ). Происхождение костромского ба-шалы´га ‘плеть, кнут’ можно связать с польск. диал. basałyga, basałyk ‘кнут из лыка’, ‘бездельник, простак, деревенщина’ (SGP, t. 1, s. 54), которое А.Е. Аникин считает одним из возможных этимонов для рус. басалaй ‘щеголь’, ‘беспутный человек, хулиган’, поскольку «образование пейор. назв. лиц типа басалыга от назв. кнута, бича не редкость» (Аникин, вып. 2, с. 243). На территории Русского Севера заимствования из польского языка не единичны и представляют собой системное явление (ср.: гл. трафить, коштовать, сущ. мазур и др. примеры в [Березович, 2017]). Как отмечает Е.Л. Березович, «западнославянские заимствования в русских говорах, далеких от зон непосредственного контакта с носителями соответствующих языков, отнюдь не являются редкостью. Это заимствования разного времени (от старых до новейших, связанных с трагическими военно-политическими событиями XX в.)» [Березович, 2017, с. 23].
Костромское слово башалы´га в значении ‘плеть, кнут’, которое ранее не фиксировалось лексикографическими источниками, можно рассматривать как веский аргумент в пользу происхождения русских диалектных форм башалы´га / басалaй из польского языка. Благодаря записанному башалы´га ‘плеть, кнут’ стало очевидно, что первичное и вторичное значения в польском языке и в костромских говорах совпадают. Так, польск. basałyga называет кнут из лыка и простака, бездельника, а костром. башалыга – плеть из волос, басалaй, басалы´га, башалá – беспутного человека, хулигана: в Октябрьском районе Костромской области известна форма башалá в выражении дúкая башалá ‘бран. о человеке’: «Кто-нибудь с кем-нибудь разругается, дикая твоя башала, дикая твоя голова» (ЛКТЭ), в Ярославской области – басалы´га ‘шалун’ (ЯОС, т. 1, с. 39), которое фонетически наиболее близко польскому этимону. Фонетическим и словообразовательным изменениям польск. basałyga (башалыга > башала) в русских говорах способствовала экспрессивность его семантики. Костромское башалы´га ‘крепкая брага’ могло появиться на русской почве как на основе значения ‘кнут, плеть’ (как то, что сшибает, ударяет), так и на основе значения башалá (башалы´га) ‘хулиган, пройдоха’. Соотношение значений ‘пройдоха, обманщик’ и ‘алкогольный напиток’ в рамках одного этимолого-словообразовательного гнезда типично для наименований хмельных напитков, ср.: арх. свистýн ‘пиво третьего слива’, пин. ‘врун’, свердл. ‘болтун, обманщик’ (СРНГ, вып. 36, с. 301), костром. прощелы´га ‘пиво второго или третьего слива’, ‘мот, ветреный человек’, ‘обманщик, лгун, хвастун’ (СРНГ, вып. 33, с. 57), кадн. волог. едундá ‘прозвище вздорного, задиристого крестьянина’, симб. ‘жидкий, безвкусный напиток (квас или бражка)’ (СРНГ, вып. 9, с. 35). Учитывая спектр значений гнезда башалыга / басалыга и их экспрессивность, можно предположить, что слово было заимствовано в севернорусские говоры из речи ссыльных поляков (особенно примечательно значение ‘плеть, кнут’, которое связано с реалиями жизни ссыльных).
Как мы уже отметили, брага и самогон считались напитком второго сорта: их готовили из отходов, например из пивной гущи. В языке этот факт нашел отражение в мотивационной связи ‘пивной осадок, гуща; остаток’, ‘бурда, мутное питье; некачественная жидкость’ и ‘брага; самогон’, ср.: костром. пав., вохом. бардá ‘самогон, брага’, ‘забродившая смесь для самогона’, ‘осадок в пиве или квасе’, арх. уст., волог. баб., устюж. бáрдá ‘перекисшее пиво; брага’, арх. вельск. ‘мутная вода’ (СГРС, т. 1, с. 63); волог. к-г, ник. бардомá ‘брага’, ‘пивная гуща’, ‘жидкое пиво или суп’, ‘мутная жидкость’ (КСГРС); арх. уст., волог. ник. бурдомáга ‘брага’, ‘плохо приготовленная похлебка’, волог. ‘мутная грязная вода’ (КСГРС). Формы бардá , бардомá и бурдомáга , вероятно, являются родственными или подвергались взаимной контаминации, восходят к рус. бурдá ‘дурной, мутный напиток’, ‘смесь, что-л. перемешанное’, ‘смесь кушаний’ (Аникин, вып. 5, с. 155). Вологодское к-г. бахтормá ‘домашнее пиво, брага’, ‘плохо сваренный алкогольный напиток’ стало результатом семантического развития арх. в-т., волог. к-г бахтармá ‘осадок от пива, браги или другой процеженной жидкости’
(СГРС, т. 1, с. 79, 80). По предположению А.Е. Аникина, бахтормá ‘осадок от пива’ может быть образовано от « бахтармa <‘низ шляпки гриба, верх бересты’> как первоначальное назв. того, что не идет в пищу, выбрасывается (шершавая и/или “мохристая” пленка, кожица на шкуре, грибе, бересте – и осадок, остаток в пиве)» (Аникин, вып. 2, с. 296). Костромское вохом. балáнда ‘домашнее вино’: «Чача – это баланда, вино» (ЛКТЭ) – может быть словообразовательно связано с костром. вохом. балáндать ‘делать что-то, связанное с водой’: «Баландать – это значит кое-как постирать, пополоскать, поба-ландаться говорят» (ЛКТЭ), однако нельзя исключать и контаминацию с баландá диал. ‘ботвинья’, жарг. ‘жидкая тюремная похлебка’ (Аникин, вып. 2, с. 124).
Низкое качество браги опосредованно отражено в семантической модели ‘отходы’, ‘что-л. ненужное’ > ‘брага’. Так, архангельское дурáнда ‘недобродившее пиво, брага’ (вельск.) (СРНГ, вып. 8, с. 262), по-видимому, производно от значения волог. бабуш., шексн., костром. шир. распр. дурáнда ‘отходы от льняного семени, жмых’ (СГРС, т. 3, с. 288). Название арх. лен., волог. тот., сямж. сулемá ‘некачественный алкогольный напиток’, волог. чаг. шулéмка ‘домашний хмельной напиток’: «Раньше было проще, всяку шулемку делали, и никто не штрафовал» (КСГРС) – восходит к широко распространенному на Русском Севере сулемá ‘всякий яд, отрава’ (волог.), ‘о чем-либо некачественном, неприятном’ (во-лог.), ‘чепуха, ерунда’ (арх., волог.), ‘некачественная пища’ (волог. бел., кад.) (СРНГ, вып. 42, с. 219–220; КСГРС). В результате дальнейшего метонимического развития значения ‘напиток’ > ‘емкость’ появилось волог. хар. сулемá ‘бутылка из-под спиртного напитка «Бальзам»’: «Раньше “Бальзам” вино было, красные бутылки, их сулема звали» (КСГРС). Возможно, что бутылочки с бальзамом напоминали емкости от сулемы -лекарства. Распространению слова сулема , известного как обозначение хлорида ртути, мог способствовать тот факт, что еще в XIX в. это ядовитое вещество использовалось врачами в качестве антисептического средства.
Архангельское бузá ‘хмельной настой из ягод’ (шенк.) (АОС, вып. 2, с. 167), единично записанное на северной территории, по мнению А.Е. Аникина, представляет собой заимствование, восходящее к кр.-тат., балк. buza, кбалк., кумык., ног. и др. boza ‘хмельной напиток из перебродившего проса’ (Аникин, вып. 5, с. 62). Известное южным говорам название буза ‘алкогольный напиток’ могло попасть на Русский Север с переселенцами из южных территорий. Этимологическая связь с арх. бузá ‘суматоха, беспорядок, ералаш’ (лен.), ‘ссора, скандал’ (карг., кон., мез.) (АОС, вып. 2, с. 167) не является однозначной, поскольку последнее может быть родственно гл. бузúть ‘бить, колотить’ (Аникин, вып. 5, с. 70).
Интересный пример народной этимологии представляет слово кýмушка ‘брага, спиртной напиток домашнего приготовления’ (арх. лен., волог. баб., вашк., кад., костром. кадый., мак.) (ЛКТЭ; СГРС, т. 6, с. 272–273), которое явилось результатом народно-этимологического переосмысления формы кумы´шка , ср.: волог. бел. кумы´шка (СГРС, т. 6, с. 273) под влиянием термина родства кумушка , широко распространенного на Русском Севере в переносных значениях [см., например: (СГРС, т. 6, с. 271)]. Слово кумушка как обозначение домашнего спиртного напитка связывает говоры Русского Севера с говорами Центральной России, Поволжья и Урала, где записаны сходные формы, ср.: рус. морд., твер., яросл. пошех. кýмушка ‘брага, спиртной напиток домашнего приготовления’ (СРНГ, вып. 16, с. 87; СРГМ), белгород., вят., оренб., прикам., ярослав. кумы´шка (Моисеев, 2010, с. 78; ООСБ, с. 156; ОСВГ, вып. 5, с. 150–151; СГЮП, вып. 1, с. 444–445; ЯОС, т. 5, с. 107) и, вероятно, прикам. кубы´шка ‘вид самогона’ (СГЮП, вып. 1, с. 444–445), фонетически измененное в народной речи.
Название спиртного напитка кумы´шка (и кýмушка) может восходить к тат. kumyz ‘перебродившее кобылье молоко’: эпицентр распространения слова находится на территории Поволжья, где были не редки русско-тюркские контакты, ср.: у В.И. Даля: «Некоторые инородцы наши сидят или гонят вино из квашеного молока, это кумышка» (Даль, т. 1, с. 205). Судя по словообразовательной структуре слова, название кумышка появилось в русских говорах как обозначение спиртного напитка из кумыса, который готовили многие тюркские народы, ср.: свердл. кумы´ска ‘самогон’ (СРНГ, вып. 16, с. 88), в звуковом плане предшествующее форме кумы´шка. Эта версия поддерживается в этимологическом словаре Е.Н. Шиповой (Шипова, 1976) 4. Несмотря на то, что в самих тюркских языках для обозначения самогона из кумыса употреблялось слово арак (арака), в русских говорах прижилось более привычное в звуковом плане слово кумышка с изначально прозрачной внутренней формой (кумыс-ка). Кроме того, слово кумышка оказалось созвучным термину крестного родства кумушка и включилось в языковую игру.
Проживающие на территории Поволжья финно-угорские народности – главным образом удмурты, а также марийцы и мордва, вероятно, могли заимствовать слово кумышка уже из русских говоров для обозначения самогона, который был их основным праздничным, обрядовым напитком. Особое распространение кумышка получила у удмуртов, для которых «курение вина» было одним из традиционных занятий, а самогон – главным ритуальным напитком, ср.: удм. кумышка ‘самогон’ (УРС, с. 351). В.И. Даль определял кумышку именно как напиток удмуртов, чувашей и марийцев, ср.: «кумышка, ж., обл. мутная, дымная и вонючая перегонная брага (у вотяков, чуваш, черемис и др. чудских племен)» (Даль, т. 2, с. 218). Русское население считало кумышку напитком низких вкусовых качеств, поскольку она «сильно отзывается дымом и неприятным вкусом» (Моисеев, 2010, с.78).
Об употреблении кумышки «чудскими» народами было хорошо известно русскому населению, о чем свидетельствуют многочисленные контексты из русских диалектных словарей: «Вотяк приносит яйца и кумышку на могилу предка» (В.Г. Короленко. Мултан-ское жертвоприношение) (ССРЛЯ, т. 5, с. 1838); «Малмыжские марийцы без кумыш-ки не живут»; «Из охмеляющих напитков вотяки употребляют только кумышку и пиво» (вят.) (ОСВГ, вып. 5, с. 150–151); «Каждая у черемис пирушка и жертвоприношение начинаются заблаговременно самими ими приготовленными крепко хмельными и для вкуса неприятными напитками, как-то: пивом, брагою, медом, кумышным вином» (оренб.)
(Моисеев, 2010, с. 78). В последнем контексте употребляется выражение кумы´шное вино , которое может быть как формой, искусственно созданной в письменном источнике, так и реальной диалектной лексемой, которая ценна тем, что подтверждает родство кумышка и кумыс (но не кума , кумушка ), поскольку форма прилагательного ку-мышное словообразовательно может восходить только к сущ. кумыс .
По данным Н.В. Пислегина, до конца XVIII в. существительное кумышка удмуртами не использовалось: «обычным наименованием кумышки среди северных удмуртов было вина , южных – арак » [Пислегин, 2016, с. 91]. Видится неслучайным, что время фиксации слова кумышка в удмуртском языке (не ранее конца XVIII в.) примерно совпадает со временем введения запретов на самогоноварение (о них см. подробнее: [Никитина, 2015; Пислегин, 2016]). Так, впервые системный государственный запрет оформили в середине XVIII в. законами 1749–1751 гг. – в этот период у удмуртов, татар и бесермян проходили многочисленные проверки и массово изымали посуду для самогоноварения [Пислегин, 2016, c. 91]. Можно предположить, что именно в этот период слово кумышка было заимствовано из русских говоров в тюркские и некоторые финно-угорские языки, где и использовалось как эвфемизм вместо исконного (прежнего) наименования самогона: таким образом жители скрывали информацию о производстве алкоголя. Именно благодаря своей конспиративной функции слово кумышка могло прижиться в удмуртском, татарском, башкирском, чувашском языках, став основным обозначением спиртного напитка домашнего приготовления и вытеснив некоторые исконные наименования, ср.: тат. комешкэ (Ганиев, 2002, с. 200), башк. камешка (БРС, с. 279), чуваш. кумăшка , кумăшкă (Федотов, с. 306).
Эвфемизацию можно считать одной из главных особенностей названий крепких спиртных напитков, употребление которых не раз попадало под государственные запреты и вынуждало изготовителей и потребителей самогона скрываться от представителей власти. К группе эвфемизмов можно отнести, например, наименования, восходящие к цве-тообозначениям: «красные» наименования для вина – костром. пав. крáсненькая (ЛКТЭ), во-лог. выт. румя´нец (СРНГ, вып. 5, с. 583), «синие» и «серые» для браги, самогона – арх. лен. сúвка, волог. в-уст. синее вино, «белые» для водки – волог. ник. бéлая (КСГРС) 5. В Октябрьском районе Костромской области для обозначения самогона использовались словосочетания с родовым словом водичка или масло, определение в которых намекало на технологию приготовления напитка: ды´мная водичка (то есть приготовленная путем «курения» на самогонном аппарате), кúсленькая водичка (кисловатый привкус домашнего напитка), ржаное масло (приготовление на основе зерна) (ЛКТЭ).
Названия-эвфемизмы скрывали информацию не только от представителей государства, но и чужих людей и тех односельчан, кто не относился к участникам застолья. Они употреблялись в ситуации, когда питье алкоголя осуждалось членами семьи или социума. Например, название костром. гóлбешная ( гóбцешная ), определяющее самогон через место его хранения (ср.: гóлбец ‘пристройка к печи, подполье’), было связано с ситуацией запрещенного питья алкоголя: « Нагонят самогонку да уберут в голбце, а он у матери украдет, придет да говорит, давай голбешную пить» (ЛКТЭ). Удобную систему шифрования качества самогона предлагают термины кровного родства – мужская пара отец и сын , ср.: волог. отéц ‘крепкий, неразбавленный самогон’: «Сам-то отец, а женишь – сын будет», тятька ‘крепкий самогон’: «Тятьки нахлебался, дак не ять» (устюж.), арх. пáсынок ‘самогон второго разлива’: «Первачка мне не дал почто, только пасынка» (КСГРС).
Для обозначения дистиллированных напитков типичны словосложения корня -сам- и глагольной основы (по типу самогон и самовар), ср.: кал-, калить – арх. котл. самокáл (КСГРС), кур-, курить – арх. вил. самокýр (КСГРС), костром. окт. самокýрка ‘самогон’ (ЛКТЭ), также: костром. окт., пав. курúть ‘готовить, варить самогон’ (ЛКТЭ), волог. курúть ‘варить пиво с образованием пара’ (СВГ, т. 4, с. 22). Аналогично от основ друг-‘другой, второй’ и род-, родить образовано волог. баб. другорóд ‘самогон второго слива’ (КСГРС). Широкая вариативность глагольных основ также могла определяться конспиративной функцией названий, которая раскрывается в одном из контекстов: «Самокал, чтобы маленькие дети не разглашали» (КСГРС).
Существование этой семантико-словообразовательной модели, вероятно, помогает объяснить происхождение арх. карг. суматó-ха ‘брага’: «Он суматохи-то давно не гнал, с ума сводит, вот и суматоха» (СРНГ, вып. 36, с. 107). С одной стороны, название может быть результатом семантической деривации суматóха ‘беспорядок, скандал’ > ‘хмельной напиток’, примеры которой были рассмотрены выше. С другой – сопоставление с костром. ветл. самотóха , самотóшка ‘водка, самогон’ (СРНГ, вып. 36, с. 107) позволяет предположить, что суматоха представляет собой народноэтимологический вариант слова самотоха , которое в свою очередь могло возникнуть из * самоток ( а ), образованного аналогично приведенным выше самогон , са-мокур , самокал на основе корней сам - и ток -( течь ). Существительное самоток в значении ‘самогон’ нам не встречалось, однако в русских говорах оно известно, например, в значении ‘чистый, прозрачный мед, стекающий сам из выломаных сотов’ (Даль, т. 2, с. 910) или в выражении Аннушка-прялья-самотóка (смол.) (Добровольский, 1914, с. 11), указывающем на «автоматизирован-ность» процесса прядения.
В качестве эвфемистических названий спиртных напитков в костромских говорах использовались формы из бытовавших здесь условных языков. К языку офеней восходят владимир., костром., твер., яросл. аланя и елáха ‘пиво, бражка, брага’ (СРНГ, вып. 1, с. 231; т. 8, с. 338), этимоном которых может быть слав. ол ‘всякий хмельной напиток’ (см. подробнее: [Осипова, 2017]). Учитывая дату фиксации (1852 г.), происхождение из условно-профессиональных языков можно предположить для костром. торó ‘водка’ (СРНГ, вып. 44, с. 280). По предположению Г.Ю. Баг-риновского, этот диалектизм является синкопированным образованием от сущ. тарно ‘водка’ (торно, торло и др.), употреблявшимся в том числе в офенском языке. Вариант тарнó мог возникнуть путем замены начального ви- на тор- / тар- в сущ. вино (Багри-новский, 2008, с. 523, 524): подобный способ формирования новых слов путем замены начального слога в общенародной форме типи- чен для условных языков. Форме торо, возможно, генетически родственно арх. уст. торокáница ‘брага’: «Вина не продают, я и говорю этому тунеядцу: “Насоплись своей то-роканицы!”» (КСГРС). Экспрессивность слова могла быть следствием его происхождения из условных языков, формы которых воспринимались как чуждые и непривычные. Тем не менее существует и более «прозаичный» вариант происхождения слова от таракан: жаргонное слово таракáновка в значении ‘жидкость для борьбы с тараканами’ и далее – ‘дешевый, некачественный спиртной напиток’ (БСРЖ, с. 581).
В костромских говорах известно слово сулéи ‘хмельные напитки, подаваемые на стол’: «Это на столе сулеи, наподобие пива» (пав.) (ЛКТЭ). Исходя из особенностей семантики, оно мотивировано названием сосуда, в котором выносилось на стол. Однако возможно и формирование значения ‘напиток’ у приставочного деривата корня лить , без промежуточного звена ‘бутылка’. Таким же путем были образованы костром. пав. сулéй , окт. сулóй ‘пивное сусло’, пав. сулéйка , сулея´ ‘блины, оладьи’: «Сулея – старое-старое слово, сейчас шаньги» (ЛКТЭ), то есть то, что сливается, наливается. Словообразовательная структура, архаичность приставки, устойчивые фольклорные формулы («На поли ´ це блины, на столе сулея») и замечание диалекто-носителя об архаичности слова показывают, что сулéи для костромских говоров являлось исконным, не связанным с жаргонным сулейка. В то же время записанное в Октябрьском районе сулéйка ‘бутылка’ имеет жаргонное происхождение. По наблюдениям Г.Ю. Багринов-ского, общеарг. сулéйка ‘водка’ связано с распространенным в XIX в. сулейка ‘бутылка’. Переход ‘бутылка водки’ > ‘водка’ произошел в уголовном жаргоне (Багриновский, 2008, с. 519–520).
Выводы
Традиция питья браги и самогона в большей степени характеризует Костромскую, в меньшей – Архангельскую и Вологодскую области, где более устойчивой была традиция пивоварения. По мере продвижения к югу севернорусской зоны лексика пивоварения сменяется лексикой «бражничества», а затем – и самогоноварения.
Специфические семантико-мотивационные модели, характерные для названий браги и самогона, отразили технологию приготовления ( самокур , другород ), состав (приготовленные из пивных отходов барда , бахторма ), цвет ( красненькая , синее вино ), низкое качество напитка ( баланда , дуранда , сулема ) воздействие на организм человека ( головоломка , косорыловка , завалиха , шатун ). Потребность скрывать приготовление и употребление самогона от власти определялась государственными запретами на производство алкоголя. Кроме того, оно скрывалось от посторонних и детей, которые случайно могли выдать самогонщиков. С этим связано большое количество эвфемизмов ( кисленькая водичка , ржаное масло , голбешная и др.), а также вариативность, многочисленность наименований и большое количество фактов единичной фиксации ( буза , суматоха , торока-ница и др.). В названиях самогона представлены заимствования из волжских говоров ( буза , кумушка ), условно-профессиональных языков ( аланя , елаха , торо ). Поскольку брага и другой алкоголь чаще всего употребляются в ситуациях застолья и веселья, связанных как с непринужденной беседой, так и словесной перепалкой, многие лексемы получают шутливые коннотации и становятся частью языковой игры, ср: стенолаз , коряжни-чек , румянец , кумушка , суматоха .
Список литературы О некоторых названиях браги и самогона в севернорусских говорах
- Березович Е. Л., 2014. Русская лексика на общеславянском фоне: семантико-мотивационная реконструкция. М. : Рус. фонд содействия образованию и науке. 488 с.
- Березович Е. Л., 2017. К изучению западнославянских заимствований в русских народных говорах // Etymological Research of Czech. Proceedings of the Etymological Symposium (Brno 2017, 12-14 September, 2017). Praha : Nakladatelstvi Lidove noviny. S. 11-25. (Studia etymologica Brunensia 22).
- Леонтьева Т. В., 2015. Модели и сферы репрезентации социально-регулятивной семантики в русской языковой традиции : дис. ... д-ра фи-лол. наук. Екатеринбург. 427 с.
- Никитина Г. А., 2015. Кумышка в традиционном обществе и в современной жизни удмуртов // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. № 1. С. 33-36.
- Осипова К. В., 2017. Лексика пивоварения на Русском Севере: этнолингвистический аспект // Вестник Томского государственного университета. Филология. № 48. С. 57-73. DOI: 10.17223/19986645/48/4.
- Осипова К. В., 2018. Названия спиртных напитков на Русском Севере: этимолого-этнолингвисти-ческий анализ // Вестник Томского государственного университета. Филология. № 56. C. 146-165. DOI: 10.17223/19986645/56/8.
- Пислегин Н. В., 2016. Удмуртская кумышка: документальные свидетельства повседневности второй половины XVIII-XIX вв. // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. Т. 27, № 5. C. 90-96. DOI: 10.22162/2075-7794-2016-27-5-90-964.
- Толстой Н. И., 2013. Язык и культура // Толстой Н. И., Толстая С. М. Славянская этнолингвистика: вопросы теории. М. : Ин-т славяноведения РАН. С. 7-18. (Материалы ко Второму Всероссийскому совещанию славистов, 5-6 ноября 2013 г.)
- Аникин - Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. Вып. 1- . М. ; СПб. : [б. и.] , 2007- .
- А ОС - Архангельский областной словарь / под ред. О. Г. Гецовой. Вып. 1- . М. : Изд-во МГУ, 1980- .
- Багриновский, 2008 - Багриновский Г. Ю. Энциклопедический словарь спиртных напитков : Свыше 3 500 названий : История спиртных напитков от глубокой древности до наших дней. М. : Астрель : АСТ, 2008. 1342 с.
- БРС - Башкирско-русский словарь. М. : Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1958. 804 с.
- БСРЖ - Мокиенко В. М. Большой словарь русского жаргона : 25 000 слов, 7 000 устойчивых сочетаний / В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. СПб. : Норинт, 2000. 716 с.
- Ганиев, 2002 - Татарско-русский словарь : 25 000 слов / И. А. Абдуллин [и др.] ; под ред. Ф. А. Гани-ева. Казань : Тат. кн. изд-во, 2002. 488 с.
- Ганцовская - Ганцовская Н. С. Словарь говоров Костромского Заволжья: междуречье Костромы и Унжи (с эпицентром акающих говоров). (Рукопись).
- Даль - Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М. : Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1955. 4 т.
- Добровольский, 1914 - Смоленский областной словарь / сост. В. Н. Добровольский. Смоленскъ : Типографiя П. А. Силина, 1914. 1022 с.
- ДЭИС - Традиционная культура Урала : Диалектный этноидеографический словарь русских говоров Среднего Урала / авт.-сост.: О. В. Во-стриков, В. В. Липина. Екатеринбург : [б. и.], 2009. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
- Ефименко - Ефименко П. С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. В 2 ч. Ч. 2. Народная словесность. М. : Типо-лит. С. П. Архипова и К°, 1878. 276 с.
- КСГРС - Картотека Словаря говоров Русского Севера. (Хранится на кафедре русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ, г. Екатеринбург).
- ЛКТЭ - Лексическая картотека Топонимической экспедиции Уральского университета. (Хранится на кафедре русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ, г. Екатеринбург).
- Моисеев, 2010 - Моисеев Б. А. Оренбургский областной словарь : 5 698 слов и словосочетаний / Б. А. Моисеев. Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2010. 192 с.
- ООСБ - Кошарная С. А. Опыт областного словаря Белгородчины: дифференц.-сопостав. слов. / С. А. Кошарная, А. С. Алейник, А. И. Медведева. Белгород : Эпицентр, 2017. 330 с. Опыт - Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделением Академии наук / ред. А. Х. Востоков. СПб. : Тип. Император. акад. наук, 1852. 275 с.
- ОСВГ - Областной словарь вятских говоров / под ред. В. Г. Долгушева, З. В. Сметаниной. Вып. 1- . Киров : Коннектика : Изд-во ВятГГУ : Радуга-ПРЕСС, 1996- .
- СВГ - Словарь вологодских говоров : в 12 т. / под ред. Т. Г. Паникаровской. Вологда : Изд-во ВГПИ / ВГПУ 1983-2007. 12 т. СГРС - Словарь говоров Русского Севера / под ред.
- A. К. Матвеева. Т. 1- . Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001- .
- СГЮП - Подюков И. А. Словарь русских говоров Южного Прикамья. Вып. 1-3. Пермь : Изд-во ПИШУ 2010-2012.
- СРГК - Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей : в 6 т. / гл. ред. А. С. Герд. СПб. : Изд-во СПбГУ 1994-2005. 6 т.
- СРГМ - Словарь русских говоров на территории Республики Мордовия : в 2 ч. / отв. ред. Р. В. Семенкова. СПб. : Наука, 2013. 1560 с. 2 ч.
- СРНГ - Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф. П. Филин, Ф. П. Сороколетов, С. А. Мызников. Вып. 1- . М. ; Л. ; СПб. : Наука, 1965- .
- ССРЛЯ - Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. / В. И. Чернышев (гл. ред.) [и др.]. М. ; Л. : Изд. и 1-я тип. изд-ва Акад. наук СССР в Л., 1948-1965. 17 т. Тенишев - Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы : материалы «Этнографического бюро» князя
- B.Н. Тенишева. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 3. Никольский и Сольвычегодский уезды. СПб. : Деловая полиграфия, 2007. 683 с.
- УРС - Удмуртско-русский словарь : Около 50 000 слов / сост.: Т. Р. Душенкова [и др.] ; отв. ред. Л. Е. Кириллова. Ижевск : [б. и.], 2008. 925 с. Федотов - Федотов М. Р. Этимологический словарь чувашского языка. В 2 т. Т. 1. Чебоксары : Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук, 1996. 981 с.
- Шипова - Шипова Е. Н. Словарь тюркизмов в русском языке / отв. ред. А. Н. Кононов. Алма-Ата : «Наука» КазССР, 1976. 392 с.
- ЯОС - Ярославский областной словарь : в 10 т. / отв. ред. Г. Г. Мельниченко. Ярославль : ЯГПИ им. К.Д. Ушинского, 1981-1991. 10 т.
- SGP - Karlowicz J. Slownik gwar polskich. T. 1-6, Krakow : Nakladem Akademii Umiej^tnosci, Drukarnia C.K. Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1900-1911.