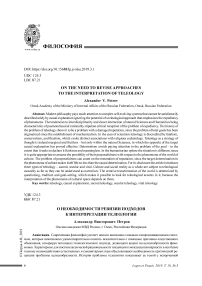О необходимости ревизии подходов к интерпретации телеологии
Автор: Петров Александр Викторович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
Современная философия уделяет немало внимания сложным саморазвивающимся системам, которые невозможно удовлетворительно описать исключительно с помощью причинно-следственного объяснения, игнорируя потенциал телеологического подхода, делающего акцент на целесообразности феноменов. Характерные для постнеклассической рациональности тенденции к междисциплинарности и все более тесному взаимодействию естественных и гуманитарных наук обусловливают необходимость критической рецепции проблемы целесообразности. История проблемы телеологии показывает ее темой с испорченной репутацией, поскольку со времен утверждения механицизма проблема тотальных целей подверглась стигматизации. В глазах сциентизма телеологию дискредитируют фатализм, консерватизм и финализм, вызывающие отчетливые ассоциации с религиозной эсхатологией. Телеология как стратегия мышления действительно маргинальна и бесплодна - но только в пределах естественных наук, в которых доказало свою эффективность противоположное целевому причинно-следственное объяснение. Детерминизм избегает обращать внимание на проблему цели - вплоть до того, что стремится объявить ее фиктивной и лишенной смысла. В гуманитарной сфере дела обстоят иначе, поскольку относительно феноменов мира культуры вполне уместно допустить возможность их целенаправленности. Проблема целенаправленности может рассчитывать на восстановление репутации, поскольку целевая детерминация в феноменах культуры дает о себе знать ничуть не меньше, чем детерминация причинно-следственная. Для ее раскрытия в статье вводятся три типа телеологии - сакральная, секулярная и витальная. Культура и социальная реальность в целом подчиняются телеологической причинности настолько, насколько их можно понимать как нарратив. Творческое преобразование мира детерминируется вопрошанием, традицией и целеполаганием, что делает возможным искать в нем телеологические акценты, ведь именно от них зависит интерпретация феноменов культурного пространства.
Телеология, причинно-следственное объяснение, сакральная телеология, секулярная телеология, витальная телеология
Короткий адрес: https://sciup.org/149130474
IDR: 149130474 | УДК: 124.3 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2019.3.1
Текст научной статьи О необходимости ревизии подходов к интерпретации телеологии
DOI:
Сколько бы философия ни утверждала в попытках самоосмысления тезис о том, что она – средоточие критического взгляда на вещи, – ее утверждения никогда не смогут избавиться от аксиоматического характера. Все, что утверждает философия сейчас, утверждала ранее и будет утверждать в дальнейшем, так или иначе требует веры (как минимум, в собственную достоверность), хотя и доступно для аргументации и критики. Известный «догматизм» философии проявляет себя во многом – от тезиса о тождестве бытия и мышления, являющегося предметом горячих споров «идеалистов» и «материалистов» (позволим себе взять эти слова в кавычки как ярлыки, столь любимые в истории философии, и оставим за скобками вопрос о том, станет ли последовательный материалист опровергать взгляды, в его глазах малозначимые), до уверенности в том, что философия является наукой в строгом смысле слова. Даже сама мысль, высказанная в предыдущем предложении, требует веры в то, что история философии существует (т.е. может быть описана как история, а не как дискретная череда явлений) и что философия находится в некоторых отношениях с наукой и может быть определена относительно нее. Этому суждению можно противопоставить убедительные утверждения противоположного смысла, столь же догматичные и в то же время для критики (не наносящей им, однако, никакого вреда). Общеизвестна удивительная особенность философии быть убедительной, но значительно менее способной переубеждать – однаж- ды сформированная позиция (мировоззрение, стратегия мышления etc.) весьма неохотно уступает место другой, даже под воздействием аргументов, безусловно убедительных в иных обстоятельствах (например, вне конфликта мнений). Мера доверия ко взглядам прямо зависит от того, насколько стратегия мышления, релевантная им, удовлетворяет запросам сознания – утверждает ли она принцип понятности мира, говорит что-либо об его че-ловекоразмерности, обещает ли обнаружение смысла феноменов за пределами вещного мира и т. д. – словом, предлагает ли она систему координат и шкалу оценок, в которую хотел бы себя поместить и которой желал бы пользоваться человек. В этом философия похожа на религию – с той разницей, что последняя не только дает систему координат и шкалу оценок, но и однозначно указывает на их происхождение и неоспоримую ценность. Значительная часть философской проблематики вышла из религиозной сферы, и, хотя обрела она себя вне ее пределов, некоторые темы философии до сих пор имеют достойный внимания религиозный смысл. К их числу относится телеология.
Телеологическая проблематика является общей для философии и религии, причем в области последней телеология имеет большую содержательность. Религия невозможна без эсхатологии и сотериологии – векторов, имеющих отчетливый телеологический характер, проявляющий себя в утверждениях о тотальных целях и целях индивидуальных. Их описание конкретно: сотериология состав- ляет ядро религиозной антропологии и этики, а эсхатология ставит точку в раскрытии онтологии и завершает историю. Способность «завершать» и «закрывать» – важнейшая черта религиозной телеологии, которая, будучи распространенной за пределы религии в область философии, не только покусилась на автономию последней, но и дала обильную почву для упреков телеологии как таковой в фи-нализме, отрицании свободы развития и отсутствии эвристического потенциала (последнее обусловлено использованием способа объяснения, обратного причинно-следственному). Эти обвинения убедительны постольку, поскольку такая стратегия мышления действительно маргинальна, бесплодна и непригодна – но только в пределах естественных наук. В гуманитарной сфере дела обстоят иначе. Выше уже шла речь о том, что от «принятия» определенной стратегии мышления зависит отношение к философским проблемам. Решение проблемы цели и сама возможность телеологии также зависят от этого.
История проблемы телеологии показывает ее темой с испорченной репутацией – испорченной, прежде всего, в глазах науки. За то, что телеология с самого момента своего выхода в философское пространство не порывала связи с религиозным мировосприятием и в религиозной области имела значительно больше конкретности, чем где бы то ни было еще, философия со времен утверждения механицизма стигматизировала проблему тотальных целей. В отношении сциентизма к проблеме телеологии типично проявляют себя обвинения ее в финализме, фатализме, шире – в консерватизме. Христианская телеология указывала на конечные цели бытия мира и человека – разумеется, с элиминацией религиозного аспекта философии, начавшегося еще в эпоху Возрождения, христианская интерпретация конечных целей оказывалась все менее убедительной. В итоге из науки, а затем и философского дискурса в большей части философских направлений была элиминирована не только проблема религиозной телеологии, но и проблема телеологии вообще.
Да и какая судьба могла ожидать точку зрения, столь разительно отличающуюся от идеала научности, утвердившегося в Новое время? Финализм телеологии, указывающий на возможность определения тотальных целей существования, вызывал отчетливые ассоциации с религиозной эсхатологией, что уже само по себе не было комплиментарно с точки зрения эпохи Просвещения с его протестом против клерикализма, феодализма и вообще всего, что имело отношение к «темным векам» (к этому впоследствии присоединился протест против креационизма, не испытывавший к телеологии ничего, кроме антипатии). Подозрения в фатализме, почвой для которых могут служить рассуждения о тотальных целях, также не могли существовать в одном пространстве с верой в разум, которой было проникнуто Новое время. Эта вера обещала человечеству освобождение от настроений общественной жизни, победу над голодом, болезнями и прочими скорбями, но главное – она вселяла надежду на обладание твердым знанием о мире, которое одно лишь может принести эти вожделенные плоды. Утопические социальные модели (от Т. Мюнцера до Н.Г. Чернышевского) представлялись настолько реализуемыми, что, казалось, наука может вернуть человечеству утраченный рай и преодолеть грехопадение, восстановить поврежденное достоинство тварного мира, созидателем которого сделается сам человек. В этом отношении показательна попытка организовать «рациолатрию» деистического толка вскоре после свержения французской монархии в XVIII в., вошедшая в историографию как Культ Разума [Олар web]. Эта попытка, на современный взгляд карикатурная, на первых порах даже встретила у современников живой отклик и была в общем симптоматичной для того времени. Очевидно, что свобода разума быть самим собой, утверждаемая секулярной культурой, выглядит значительно привлекательнее фатализма, который может быть обнаружен внутри телеологии.
Как бы там ни было, мнимые или действительные финализм, фатализм и консерватизм телеологии все же являются второстепенными моментами, дискредитирующими ее в глазах сциентизма. Более существенным будет то обстоятельство, что в науке Нового времени утвердился и доказал эффективность познавательный принцип, противный телеологии, – речь идет о причинно-следственном объяснении.
Категории причинности посвящен массивный корпус литературы – настолько значительный, что претендует либо на детальный разбор, либо допускает одно лишь упоминание – как тема, являющаяся общим местом. В контексте настоящей темы причинно-следственное объяснение допустимо назвать если не «телеологией наоборот», то реверсивным / обратным целеполаганием – допустимо в той мере, в какой использование причинно-следственного объяснения не приближает к решению проблемы понимания феноменов культуры. Очарованность возможностями причинно-следственного объяснения, воплотившаяся в классическом детерминизме, столкнулась со свободой, невозможной для него. Разбор мнений о том, какова может быть причинность и как возможно примирить ее со свободой, грозит стать самостоятельным и самоценным, поэтому ограничился здесь упоминанием современной концепции «свободной причинности», которая является попыткой включить в жесткие причинно-следственные связи нечто, привносящее смысл, но ориентированное совершенно противоположно, – цель.
Коротко говоря, В.Э. Терехович предлагает вместо действующей и целевой причинности, выделенных еще Аристотелем 1, рассматривать «причинность вероятностную, а вместо детерминизма и телеологии интерференцию возможных движений» [Терехович 2012, 57]. Для нас важно, что целевая причинность, изгнанная из науки и философии сциентизмом, вновь признается достойной внимания – и цитируемым автором, и многими другими. Так, В.С. Степин утверждает, что понятие целевой причинности необходимо для понимания саморазвивающихся систем, для которых не хватает ни вероятностной причинности, ни тем более детерминизма 2.
Не станем утверждать ничего насчет того, какой эвристический потенциал имеет понятие целевой причинности в естествознании и как он может быть реализован. В феноменах природы мы можем лишь усмотреть то, что И. Кант называл целесообразностью без цели, причины которой мы не можем в некоей воле [Кант 1994, 58], да и сама она («цель природы») лежит полностью за пределами способности суждения самой по себе [Кант 1994, 366]. В связи с этим принцип эко- номии мышления допускает лишь признание возможности такой целесообразности, не более того. Напротив, относительно феноменов мира культуры (шире – реальности сознания) уместно не только допустить возможность их целесообразности, но и предпринять попытку определить, какой она может быть. Иначе говоря, в отношении «физики» этот труд едва ли принесет плоды, тогда как для «лирики» он обещает быть весьма полезным.
В пользу небесплодности рассуждений о возможности поиска тотальных целей в бытии говорит то, что в мире сознания эти цели не только возможны, но и существуют в полной непреложности. Конечно, «мир идей» и «мир вещей» (или мир внеположенных сознанию явлений) не тождественны, но первый оказывает влияние на второй – и если характер этого влияния (и даже самой его возможности) является одной из основных философских проблем, то одна вещь соприсутствует в равной степени в обоих мирах, будучи и реальностью сознания, и одним из измерений внеположенного сознанию мира. В нем же существует и категория цели, всегда оставаясь возможностью. Речь идет о времени.
В современной картине мира понимание времени сохранило в себе некоторые рудиментарные черты исторически более ранних типов мировоззрения – начиная с обыденного идиллического представления о добротных былых временах и худородной современности, легко объяснимого психологически 4, заканчивая фундаментальным тезисом о том, что время нашей Вселенной имеет точку отсчета. Начальное время – это момент старта космогонии, как ее понимает современная наука, и пора сакральных событий любой развитой религии. Если идея того, что время имеет начало, нашла себе место в научной картине мира, то идея его целенаправленности не покинула пределов мира культуры.
Известно, что в пределах религиозного мировоззрения впервые заявила о себе идея наличия целей истории, возможная, в свою очередь, благодаря идее конечности времени. Религиозная онтология – и религиозное понимание времени – имеют в виду тотальные цели и тотальное время, утверждать что-либо о личном времени и целях личного бытия можно только лишь относительно этой тотальности. Впрочем, в объективном смысле и сама эта тотальность относительна настолько, насколько относительны религиозные максимы. Философская антропология со времен Протагора и Сократа делала акцент на человекоразмерности бытия; на этом его ка- честве зиждется способность сознания свободно устанавливать личные цели и делать высказывания нерелигиозного характера относительно тотальных целей. Философия – первая претендующая на автономию форма секулярной культуры (что не предполагает, однако, полного разрыва с религиозной традицией; уместно вспомнить высказывание А. Кожева, говорившего так: «Хотим мы того или нет, зачинатели современной науки не были ни язычниками, ни атеистами, ни, как правило, даже антикатоликами» [Кожев 2006, 422]). Тем не менее, в этой секулярной культуре нашла себе место религиозная по генезу идея телеологии в онтологии – в виде телеологии, основанной на способности сознания свободно полагать цели своего существования. Общей чертой религиозной и секулярной телеологий является мысль о том, что категория цели проявляет себя там, где есть место процессу, управляемому субъектом, привносящим в него осмысленность. Если это воздействие гетерономно, а его источник имеет трансцендентальный характер, то телеологию, существующую на этом фундаменте, можно назвать сакральной. Напротив, если субъект, свободно и автономно полагает цели процесса, в который вовлечен, а в религиозных максимах видит одну из форм интеллектуальной культуры, а не нечто, обладающее высшим авторитетом, то такую телеологию можно назвать секулярной.
Типичным примером секулярной телеологии можно считать незаметно превратившиеся в «светские религии» политические идеологии, особенно в том виде, в котором они бытовали в ХХ в., когда перестали быть подходами к пониманию власти и властных отношений и сделались маркерами самоидентификации в самом широком спектре – от взглядов на вопросы собственности и ее распределению до гендерных отношений и потребительских вкусов. Как видно, политические маркеры в ХХ в. приобрели те же черты, что и религиозная идентификация в Средние века или Новое время. Действительно, антипатия, по внешности мотивированная тем, что оппонент имеет иные взгляды по поводу богочелове-чества Христа времен внутриевропейского альбигойского крестового похода против катаров, немногим отличается от «охоты на ведьм» времен маккартизма в США. Альбигойцы в глазах своих противников были исчадиями ада, поскольку покушались на все, что дорого сердцу доброго католика, и извращали дорогу ко спасению [Дунаев 2008, 83–84]. Коммунистическая угроза казалась на Западе столь же реальной и не менее устрашающей – только с поправкой на экономику, политику и социальное устройство; собственно, это и было одной из причин демонизации коммунистов [Schrecker 1999, 8] в годы холодной войны. Иными словами, сакральное и секулярное нередко проявляет в вопросах целей немало общего – как минимум то, что цели секулярного генеза могут стать объектами горячей веры и даже приобрести своих мучеников. По этой причине противоположностью сакральной телеологии, видящей личные и тотальные цели в регистре священного, будет витальная телеология, полагающая цель существования в нем самом. Если сакральная телеология гете-рономна и трансцендентна, то витальная телеология полностью имманентна и аномийна.
В секулярную телеологию входит самая обширная группа целей, которая может быть описана в самых разных, но всегда конкретных выражениях. Это могут быть цели, обусловленные многообразными и подробно описанными ценностями, составляющие пирамиду А. Маслоу, а могут быть цели, восходящие к идее альтруизма в интерпретации О. Конта или к деонтологии категорического императива И. Канта. Сакральная телеология имеет большую содержательность, поскольку гетерономное и трансцендентное возможно изложить только с помощью символов и превращенных форм смысла, всегда неоднозначных и оставляющих простор для интерпретаций. Аномийная и имманентная витальная телеология имеет максимально объемно понимаемую, а потому минимально содержательную цель. Этот колоссальный объем позволяет ей быть конкретизированной самым различным образом – настолько разнообразно, насколько широко можно понимать цель существования, обеспечивающего жизнь. Однако в понятие витальной телеологии может быть включен не только гедонизм, видящий цель в наслаждении жизнью (если брать в расчет его вульгарное понимание), не отягощенной страданием (в чем и состоит его подлинный смысл, поскольку Эпикур, в котором с древности видели главного апологета гедонизма, полагал, что истинное удовольствие состоит в освобождении от страданий, а это, в свою очередь, означает отказ от непосредственного чувства удовольствия как предмета стремлений [Тан-хилевич 1926, 89]). Ее питают также современные тревоги за выживание человечества как вида, сохранение биосферы и предотвращение экоцида, а также вызовы со стороны трансгуманизма, когда само понятие «жизнь» обещает изменить свое содержание и сделаться зависимым от личного выбора того, какой из технологически доступных форм существования воспользоваться. Первые воплощаются в вере в спасительную силу технического прогресса, который принесет избавление от всего, что угрожает жизни (впрочем, очень немногие экологи могут поддержать это кредо [Bourg 2009, 61]). В этой вере снимается противопоставление искусственного (техники) и естественного (жизни) и проявляет себя витальная телеология, поскольку за верой в технологии скрывается ни что иное как отрицание «естественной конечности», которое, в свою очередь, неотделимо от отрицания «конечности человека», т.е. от жизнеут-верждения. Трансгуманизм же, делая акцент на том, что жизнь – это далеко не только форма существования белковых тел, и понимает ее весьма широко, поскольку она должна сделаться тем, что зависит от личного выбора того, какой из технологически доступных форм существования воспользоваться, – апеллирует к универсальному моральному праву разумного существа решать этот вопрос самостоятельно. По этому поводу К. Эллиотт замечает: «Если вы решили стать роботом, информационным паттерном или любой другой разумной жизнью, вы можете рассчитывать, что трансгуманисты будут защищать ваше благополучие» [Elliott 2003, 16].
Современный культурный ландшафт позволяет обнаружить на нем проявления телеологий всех трех типов – сакральной, секулярной и витальной. Целеполаганием сакрального характера объясняются не только традиционные или ритуальные действия, актуально или ретроспективно связанные с культовой практикой, но и готовность умирать за свою веру. Так, сделавшиеся пугающей частью современной информационной мозаики шахиды, из чего-то экстраординарного ставшие рутинной деталью Сирийской войны последних лет (настолько характерной, что вошли в сюжет компьютерной игры-стратегии, посвященной этим событиям), не могут быть поняты иначе, чем через призму целей радикального ислама, требующего убийства неверных и обещающего за это спасение. Сакральная телеология помещает цель в вечность, в инобытие, трансцендирование к которому может быть одномоментным (и столь же далеким от всякой философии, сколь и ужасающим – как в случае с шахидом), так и длиною в жизнь, аскетическим и преображающим (каков, например, путь к личной святости в христианской антропологии). Секулярная телеология проявляет себя на пестрой палитре современности чрезвычайно разнообразно – от политических целей, экономических доктрин или свободы гендерного самоопределения до свободы научного поиска, не желающего стесняться этикой – при всей широте спектра их объединяет одно: акцент на свободе выбора и самостоятельную ценность этих целей. Она локализует цели в более-менее отдаленной исторической перспективе, полагая их вполне достижимыми в будущем или требующими от каждого поколения и каждого человека жертвы в их пользу – таковы цели, декларируемые идеологиями коммунизма, либеральной демократии или свободного рынка. В свою очередь, витальная телеология отвечает реальности постмодерна с его фрагментированно-стью и релятивизмом – в отсутствии твердых ценностей жизнь остается единственной целью, достойной преследования; это, как минимум, дает надежду на ближайшее будущее, не простирающееся за пределы продолжительности человеческого века. Впрочем, витальная телеология попадала в поле зрения философии и ранее – например, тогда, когда формировалась конвенциональная концепция государства, создаваемого для защиты жизни как основополагающего блага 5.
Сакральная телеология имеет отчетливо метафизический характер, а в секулярной телеологии могут быть обнаружены некоторые признаки метафизичности – постольку, поскольку из содержания целей, лежащих в ее основании, элиминирован религиозный гори- зонт смысла. Несмотря на это, они по-прежнему требуют веры в себя – если секулярные идеалы не будут опираться на уверенность в том, что цель достойна того, чтобы быть ценностью, то они моментально превратятся в мертвые формы смысла.
Кажется, что витальная телеология не имеет ничего, что могло бы сделать ее метафизической – однако это не так. Во-первых, с формальной точки зрения витальная телеология как принцип истолкования столь же далека от сциентистской парадигмы, как и секулярная и тем более сакральная, что делает ее метафизической по качеству. По содержанию же всякий витализм метафизичен постольку, поскольку понимает жизнь как процесс, подчиняющийся естественным законам, но не сводимый ни к ним в целом, ни к закону причинности в частности. Иными словами, витальная телеология оставляет больший простор для интерпретации того, какой должна быть эта жизнь (сравнительно с сакральной и секулярной телеологией), но это не делает ее неметафизической. По этой причине, несмотря на то что, как отмечает В.П. Зубков, «в настоящее время в науке уже весьма широко используются при описании самых разнообразных явлений такие понятия, как цель, те-леологизм, системность, сложность, целесообразность, необратимость, случайность, онтология цели, направленность и др.» [Зубков 2012, 43], это не вводит телеологию в предметное поле естествознания (и не повышает ее авторитет в глазах сциентизма). Причина этой неправомочности проста – телеологический подход к пониманию интеллигибельного и эмпирического мира культуры возможен потому, что при нем не происходит смешение природы мысли и вещей, когда в объективном существовании вещей нет ничего от идей, но с помощью первых можно делать суждения о вторых. Напротив, телеологические концепции объяснения природы, как отмечает Д.Н. Разеев [Разеев 2009, 83], не удовлетворяют принципу научности, т. к. вовлекают в естествознание чуждые ему принципы, не обладающие объективной (в сциентистском смысле) значимостью.
Помимо известной «метафизичности» сакральной, секулярной и даже, как оказывается, витальной телеологий, с точки зрения онтологии их объединяет интерес к проблеме осуществления цели, в процессе которого возможность становится действительностью. Г.В. Хлебников обозначает эту проблему следующим образом: «Телеология рассматривает категории возможности, деятельности и действительности в их противоречивом единстве и намечает связь этих категорий с понятиями “случайность” и “необходимость”» [Хлебников 2008, 147].
Если допустить, что феномены культурного пространства (где в конечном итоге и оказываются содержания творческого акта, ставшие фактом) могут иметь иную темпо-ральность, чем явления пространства эмпирического, то отношения между свободой (случайностью) и необходимостью будут иными. В литературе и кино нередко можно встретить сюжеты, связанные с путешествиями во времени. Это экстраординарное допущение радикально влияет на фабулу произведения – не только потому, что невозможное становится возможным, но и потому, что такой подход открывает интересные сюжетные перспективы. Примером может послужить новелла Р. Акутагавы «В чаще» (1922), предлагающая читателю три совершенно разных причинно-следственных последовательности для объяснения одного события. Новелла погружает читателя в прошлое, из которого будущее (в самом начале бывшее настоящим) меняется и приобретает иной вид. Это дает М.Е. Бойко основания утверждать, что «например, новелла Р. Акутага-вы “В чаще”, рассказ Х.Л. Борхеса “Три версии предательства Иуды”, роман М. Павича “Хазарский словарь” имеют квантовую фабулу. А под квантовой фабулой мы понимаем линейное причинное течение событий сразу по нескольким альтернативным путям» [Бойко 2013, 32]. Не станем утверждать, насколько оправдано такое именование с точки зрения литературоведения. В контексте разбираемой здесь темы важно то, что «изменяя прошлое, путешественник во времени выступает как телеологическая причина, то есть будущее состояние системы влияет на ее прошлое состояние» [Бойко 2013, c. 33]. В связи с этим можно утверждать, что не только литературное произведение как феномен культуры, но и сама культура, и даже со- циальная реальность в целом подчиняются телеологической причинности настолько, насколько их можно понимать как нарратив. Другими словами, социальная реальность – то же произведение, в котором из настоящего можно изменить понимание прошлого – разумеется, не буквальным темпоральным перемещением, а метафорическим. Такую реальность ярко обрисовал Дж. Оруэлл; в ней факты вовсе не «упрямая вещь» и легко поддаются манипуляциям – настолько, что прошлое оказывается несостоятельным перед лицом нового настоящего. «…Было объявлено, что Океания с Евразией не воюет… Война идет с Остазией. Евразия – союзник. Океания воюет с Остазией: Океания всегда воевала с Остазией. Большая часть всей политической литературы последних пяти лет устарела. Всякого рода сообщения и документы, книги, газеты, брошюры, фильмы, фонограммы, фотографии – все это следовало молниеносно уточнить» [Оруэлл 2003, 232– 233]. Оруэлловское двоемыслие давно покинуло страницы художественной литературы и сделалось самостоятельным словом, дополняющим специальные термины вроде раздельного мышления-компартментализации и хорошо подходящим для описания тех состояний, в которые попадает сознание в результате агрессивных манипуляций, творящих новую реальность и изменяющих не только настоящее, но и прошлое.
Для творческого преобразования, каким бы «знаком», отрицательным или положительным, оно ни обладало, открыто все, что можно отнести к человеческой культуре. В свою очередь, оно детерминируется вопрошанием, традицией и целеполаганием, что делает возможным искать в нем телеологические акценты, ведь именно от них зависит интерпретация феноменов культурного пространства. По меткому замечанию И.А. Ильина, «в искусстве верно и художественно только необходимое» [Ильин 1992, c. 333]. Это характеризует свободу вопрошания как явление глубоко детерминированное. Но эта детерминированность состоит не в каких-либо внешних обстоятельствах и эмпирических причинах, она глубже и уходит своими истоками в интерес личности к явлению, на предмете которого задается вопрос к бытию о его возможности.
Список литературы О необходимости ревизии подходов к интерпретации телеологии
- Аристотель 1976 - Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1. М.: Мысль, 1976.
- Бердяев 1994 - Бердяев Н.А. Основы богочеловеческой духовности. Философия свободного духа. М.: Республика, 1994.
- Бойко 2013 - Бойко М.Е. Обобщение теории фабулы: темпоральность, причинность, суперпозиция // Филологические науки. Вопросы теории и практики: в 2 ч. Ч. 1. 2013. № 11 (29). С. 31-34.
- Бэкон 1977 - Бэкон Ц. Сочинения в двух томах. Т. 1. М.: Мысль, 1977.
- Бэкон 1978 - Бэкон Ц. Сочинения в двух томах. Т. 2. М.: Мысль, 1978.
- Гадамер 1991 - Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991.
- Гесиод 2001 - Гесиод. Труды и дни. М.: Лабиринт, 2001.
- Гоббс 1989 - Гоббс Т. Сочинения в двух томах. Т. 1. М.: Мысль, 1989.
- Дунаев 2008 - Дунаев А.Л. Основные этапы идеологической борьбы с ересью в XII-XIII вв. // Вестник Московского университета. Серия 8, История. 2008. № 1. С. 76-91.
- Зубков 2012 - Зубков В.П. Детерминизм и телеология в современной философии науки // Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2012. № 4. С. 39-45.
- Ильин 1992 - Ильин И.А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1992.
- Кант 1994 - Кант И. Сочинения в восьми томах. Т. 5. М.: Чоро, 1994.
- Кожев 2006 - Кожев А. Атеизм и другие работы. М.: Праксис, 2006.
- Олар web - Олар Ф.А. Культ Разума и культ Верховного существа во время Французской революции // http://istmat.info/node/28905.
- Оруэлл 2003 - Оруэлл Дж. Скотный двор. 1984. Памяти Каталонии. Эссе. М.: АСТ, 2003.
- Разеев 2009 - Разеев Д.Н. Критическая интерпретация кантовской аналитики телеологической способности суждения // Философские науки. 2009. № 11. С. 74-87.
- Степин web - Степин В.С. Творчество А.А. Зиновьева и любовь к мудрости. Доклад на междунарудной конференции "Зиновьевские чтения в Московском университетете". 6-7 ноября 2008 г. // http://www.zinoviev.ru/ru/conference/stepin.html.
- Танхилевич 1926 - Танхилевич О.М. Эпикур и Эпикуреизм. М.: Новая Москва, 1926.
- Терехович 2012 - Терехович В.Э. Действующие и целевые причины в принципе наименьшего действия // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, 2012. № 3. Т. 2. С. 49-59.
- Фома Аквинский 2000 - Фома Аквинский. Сумма против язычников. Долгопрудный: Вестком, 2000.
- Хлебников 2008 - Хлебников Г.В. Некоторые проблемы философской теологии Аристотеля, Платон и неоплатонизм (сводный реферат) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3, Философия. Реферативный журнал. 2008. № 2. С. 145-158.
- Bourg 2009 - Bourg D. L'impйratif йcologique // Esprit. 2009. № 360 (12). P. 59-71.
- Elliott 2003 - Elliott С. Humanity 2.0 // The Wilson Quarterly. 2003. Vol. 27, №. 4. P. 13-20.
- Schrecker 1999 - Schrecker E. McCarthyism's Ghosts: Anticommunism and American Labor // New Labor Forum. 1999. № 4. P. 6-17.