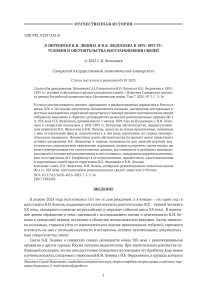О переписке В.И. Ленина и Н.Е. Федосеева в 1892-1893 гг.: условия и обстоятельства восстановления связей
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс зарождения и распространения марксизма в России в конце XIX в. На основе документов Департамента полиции, материалов центральных и местных жандармских управлений представлен сложный процесс восстановления связей отбывшего наказание в «Крестах» руководителя казанских революционных кружков 80-х гг. XIX века Н.Е. Федосеева, проживавшего с начала 1892 года во Владимире, с В.И. Лениным и самарским подпольем в 1892-1893 гг. Показаны обстоятельства, предшествовавшие переписке Н.Е. Федосеева и В.И. Ленина, ранее не до конца проясненные, связанные с нею исторические факты, вовлеченность в нее ряда соратников по социал-демократическому движению. Неизвестные ранее обстоятельства позволяют яснее представить условия нахождения Н.Е. Федосеева в тюрьме, возможности для занятий научной деятельностью, определяемые тюремными порядками, уточнить перечень прочитанных им книг и интересующих его статистических данных, все сложности и проблемы налаживания связей и осуществления переписки в этих условиях с самарскими корреспондентами, роль его соратницы М.Г. Гопфенгауз в ее осуществлении, причастность к восстановлению и укреплению связей других соратников Н.Е. Федосеева и В.И. Ленина.
Н.Е. Федосеев, В.И. Ленин, самарское революционное подполье начала 90-х гг. XIX века, восстановление революционных связей, марксизм в России
Короткий адрес: https://sciup.org/148331444
IDR: 148331444 | УДК: 930.1(329+323.4) | DOI: 10.37313/2658-4816-2025-7-2-5-16
Текст научной статьи О переписке В.И. Ленина и Н.Е. Федосеева в 1892-1893 гг.: условия и обстоятельства восстановления связей
В апреле 2025 года исполнилось 155 лет со дня рождения, а в январе – сто один год со дня смерти В.И Ленина, выдающегося политического деятеля конца XIX - первой четверти ХX века, оказавшего влияние на российские и мировые события всего ХХ века. В нынешнее время обращение к теме, связанной с исследованием жизни и деятельности В.И. Ленина в самарский период, встречает в обществе неоднозначную реакцию. Автор насколько возможно, старался уйти от идеологических оценок происшедших событий, стремился взглянуть на них с позиций научности и историзма, оставив неизменными документальные свидетельства эпохи.
Владимир Ильич начинал свою революционную деятельность в Казани в середине 80-х гг. XIX века и продолжил в 1892-1893 гг. в Самаре1. К сожалению, к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина появился в основном ряд публицистических работ2. Несколько более подробно эти вопросы освещены в работе Р.П. Поддубной «Ульяновы. Самарские страницы жизни»3.
Исследования российских и зарубежных авторов в значительной степени относятся к советскому периоду нашей истории. В основном они базируются на воспоминаниях родных, близких, соратников по борьбе, некоторых архивных документах, мемуарах идейных противников В.И. Ленина. В то же время при всей ценности этих источников авторами из позитивных (родственных, личных, партийных и т.д.) и негативных побуждений допущены недостаточно взвешенные оценки тех или иных интересующих нас вопросов, в связи с чем желательна перепроверка представленных фактов из других, ранее неизвестных источников, с тем чтобы в большей степени убедиться в достоверности происшедших событий. Особенностью изучения вопросов, связанных с перепиской В.И. Ленина и Н.Е. Федосеева, является то, что вовлеченные в нее лица, сами будучи поднадзорными, в условиях строжайшего полицейского контроля (нахождение в тюрьме, перлюстрация всей корреспонденции, отсутствие необходимых материалов, запрет на чтение газет и журналов) обсуждали важнейшие проблемы общественного развития России того времени, положенные впоследствии в основу стратегии и тактики российской социал-демократии конца XIX-начала ХХ века, и прежде всего по аграрному вопросу.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье были использованы общенаучные и специальные методы: исторический, сравнительный, логический, диалектический, системного анализа - для исследования политической ситуации в России в начале 90-х годов XIX века, атмосферы слежки, доносов, условий, в которых осуществляли свою деятельность нелегальные кружки, реальных возможностей установления и развития революционных связей между ними, условий содержания в тюрьме и возможностей переписки, пользования литературой для научных занятий в тюремных замках, особенностей нахождения под гласным и негласным надзором полиции, анализа документов Департамента полиции и местных жандармских управлений по наблюдению за поднадзорными.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Переписке В.И. Ленина и Н.Е. Федосеева предшествовал довольно длительный период их «заочного знакомства». В своей статье о Н.Е. Федосееве В.И. Ленин писал: «Я слышал о Федосееве в бытность мою в Казани, но лично не встречался с ним»4.
По делу о казанских революционных кружках Н.Е. Федосеев был арестован и, отбыв год и три месяца одиночного тюремного заключения в «Крестах», был освобожден 11 января 1892 года5. С. Щепров6 неверно считает днем освобождения Н.Е. Федосеева из «Крестов» 9 января 1892 г. По распоряжению Департамента полиции Н.Е. Федосееву, состоявшему под негласным надзором полиции, было разрешено трехдневное пребывание в Петербурге7. Местом своего дальнейшего проживания он назвал город Владимир, куда и прибыл 16 января 1892 года8.
Во Владимире начинается новый этап жизни Н.Е. Федосеева - этап деятельности зрелого революционера-марксиста.
Трудно сказать точно, когда именно в рассматриваемый нами период были установлены связи владимирских революционеров с самарскими подпольщиками, близкими к окружению В.И. Ленина. Жандармские документы не содержат сведений о приезде Н.Е. Федосеева в Самару в 1889-1893 гг. Однако в материалах «Из неизданного литературного наследства Н.Е. Федосеева» на странице 201 встречаем фотографию молодого Н.Е. Федосеева с подписью под ней «1889 г. Самара, Музей революции СССР, Москва». Точно такие же фотографии Н.Е. Федосеева встречаются в других книгах о нем, но без указания на год и место съемки. Каких-либо иных свидетельств пребывания в Самаре Н.Е. Федосеева в указанный период не обнаружено.
Вполне вероятно, что в качестве первых шагов, видимо, были использованы старые знакомства членов семьи Ульяновых с поднадзорными народниками. Так, в одном из донесений помощника начальника Самарского ГЖУ в Самарском и Бузулукском уездах в августе 1889 г. говорилось о вступлении в брак Анны Ульяновой и Марка Елизарова, а также о том, что бывший студент Федор Лебедев и другие поднадзорные, проживавшие на близлежащем к Алакаевке хуторе Шарнеля, ни в чем предосудительном не замечены9. На первый взгляд кажется случайным объединение в одном донесении этих фамилий. В другом рапорте столь же «случайно» говорилось об этих же лицах: подполковник Эшенбах докладывал 11 августа 1889 года начальнику Самарского ГЖУ «о выезде из имения Сибирякова Марка Елизарова, Анны Ульяновой и Федора Лебедева»10, причем состоявшая под гласным надзором полиции А.И. Ульянова выехала в Самару самовольно. А 17 августа этого же года Ф. Лебедев выехал на родину в г.Владимир11. Далеко не случайно, что в период установления первых контактов, в конце апреля 1892 г., самарские и владимирские жандармы вдруг проявили к Ф. Лебедеву повышенное внимание, интересуясь, где он проживал ранее и чем занимался и где находится сейчас. При этом было выяснено, что Ф. Лебедев живет у своего отца во Владимире «и часто вращается в кружке лиц политически неблагонадежных»12.
Также «случайно» объединены в одном донесении от 29 сентября 1892 года поднадзорные Владимир Ульянов, Анна Елизарова и Николай Сергеев, выехавшие в Самару. Н.И. Сергеев в 1879 г. привлекался за участие в демонстрации на Казанской площади в С.-Петербурге, в 1883-1884 гг. обвинялся в причастности к участию в кружке на одном из заводов в Перми и был подчинен гласному надзору полиции, а в сентябре 1889 года выезжал из Самары в Александровский уезд Владимирской губернии и останавливался у поднадзорного А.К. Маликова, служащего на фабрике «Товарищество Соколовской мануфактуры Асафа Баранова», одном из передовых предприятий текстильной промышленности царской России того времени.
Вполне возможно, что до установления постоянных связей этими каналами пользовался В.И. Ленин для получения данных о состоянии рабочего движения во Владимирской области. Ведь именно здесь – в Орехово-Зуеве - в 1885 г. произошла знаменитая на всю Россию Морозовская стачка, оказавшая огромное влияние на пробуждение классовой сознательности и солидарности пролетариата. В.И. Ленин высоко оценил ее значение13 и не раз возвращался к ней в своих работах.
Но для установления прочных социал-демократических связей с Самарой нужна была другая основа. В это время по всей стране усиливается борьба между народниками и социал-демократами, более четко выявляются их различия в подходе к решению важнейших вопросов экономической и политической жизни России. Именно поэтому действительно прочные связи с самарскими социал-демократами у Н.Е. Федосеева стали налаживаться только по прибытии в Самару его друга - П.В. Балашова, отбывавшего двухгодичное тюремное заключение в «Крестах» по делу о федосеевском революционном кружке14.
Освободившись из тюрьмы, П.В. Балашов выехал в Самару. Об этом 30 мая 1892 г. извещал самарских жандармов петербургский градоначальник15, а 9 июня самарский полицмейстер докладывал начальству о его прибытии в город16.
Три месяца спустя после прибытия в Самару П.В. Балашова, в середине сентября 1892 года в город приехала М.Г. Гопфенгауз – подруга Н.Е. Федосеева, с которой он познакомился в сентябре 1891 года, находясь в «Крестах»17. М.Г. Гопфенгауз по поручению нелегального «Красного Креста» посещала Н.Е. Федосеева под видом кузины и оказывала ему материальную и моральную поддержку, сообщала политические новости18.
Здесь следует особо подчеркнуть время ее приезда в Самару, так как это связано с уточнением времени ознакомления В.И. Ленина с первыми работами Н.Е. Федосеева. Нигде не указана точная дата приезда в Самару Марии Германовны Гопфенгауз. Только в очерке М.И. Семенова назван год ее приезда – 189219. В биографической хронике «Владимир Ильич Ленин» точная дата приезда М.Г. Гопфенгауз также отсутствует20. Исследователь жизни и деятельности Н.Е. Федосеева во Владимире Г.П. Никифоров в одной книге называет датой ее приезда в Самару – лето 1892 года21, в другой уточняет – майское утро 1892 года22. Между тем начальник Владимирского ГЖУ в донесении от 29 сентября 1892 года, сообщая в Самару о привлечении к дознанию в качестве обвиняемого Н.Е. Федосеева, указывал, что «во время проживания его (Н.Е. Федосеева. – С.Ф.) во Владимире с ним находилась некая Мария Гопфенгауз, выбывшая на днях в Самару…»23.
Сначала Мария Германовна остановилась у А.А. Кацнельсон – подруги П.В. Балашова, а «дня через четыре удалось найти на Воскресенской улице…подходящую комнату…»24. Свидетельство А.А. Белякова подтверждается данными Самарского ГЖУ. Уже 3 октября 1892 года жандармы запрашивали самарского полицмейстера о знакомствах М.Г. Гопфенгауз и ее занятиях в Самаре 25.
Таким образом, можно предположить, что М.Г. Гопфенгауз выехала в Самару накануне ареста Н.Е. Федосеева, скорее всего в период с 7 сентября до 10 сентября 1892 года, т.е. во временной промежуток между арестом В.В. Кривошея – сподвижника Н.Е.Федосеева26 и арестом самого Николая Евграфовича27, причем у последнего ничего компрометирующего найдено не было.
Узнав о начавшихся арестах, Н.Е. Федосеев, понимая, что могут арестовать и Марию Германовну, отправил ее в Самару к П.В. Балашову, вероятно, передав с нею хранившиеся у него компрометирующие материалы.
А.И. Ульянова-Елизарова отмечала, что арест для Н.Е. Федосеева был полной неожиданностью и произошел в тот момент, когда Николай Евграфович явился в полицейский участок для получения разрешения на выезд в Самару28. Но Н.Е. Федосееву никакого разрешения от жандармов на переезд не требовалось, так как он находился под негласным надзором полиции. Лицо же, находящееся под таким надзором, даже не должно знать об этом, хотя Н.Е. Федосеев как опытный революционер, безусловно, об этом догадывался. Разрешение на отлучку с места жительства или переезд должны были получать только лица, состоящие под гласным или особым надзором полиции. Кроме того, в протоколах допроса отмечалось, что Н.Е. Федосеев намеревался выехать не в Самару, как указывала А.И. Ульянова-Елизарова, а в Нижний Новгород29. Как ни хотелось Н.Е. Федосееву завязать знакомство с В.И. Лениным, выехать в данный момент в Самару он не мог. Появление его в это время в Самаре неминуемо повлекло бы за собой обыски и аресты лиц, вступивших с ним в контакт. Приезд же его в Нижний Новгород не был бы чреват такими последствиями для других лиц. Безусловно, зная, что его разыскивают жандармы, Н.Е. Федосеев не стал бы до выяснения всех обстоятельств посещать своих знакомых - М.Г. Григорьева и других марксистов. Свое появление в Нижнем Новгороде он вполне мог объяснить желанием навестить родного брата – Дмитрия Евграфовича Федосеева30.
Высказывая в своем письме к М.Г. Гопфенгауз желание перебраться в Самару31 (это письмо было написано им во владимирской тюрьме. – С.Ф.), Н.Е. Федосеев понимал, что как бы благополучно не закончилось для него это дело, его во Владимире не оставят. В данном случае Николаем Евграфовичем руководило желание встретиться с единомышленником, занимающимся теми же вопросами, что и он. Безусловно, непосредственное общение В.И. Ленина и Н.Е. Федосеева более благоприятно отразилось бы на разрешении возникших тогда вопросов теоретического характера. Но выход на политическую арену пролетариата, рост стачечной борьбы и возрастание классовой сознательности рабочих выдвигало необходимость руководства практическими делами рабочего движения. Именно поэтому, стремясь к установлению с Владимиром Ильичом контактов, Н.Е. Федосеев все же не переезжает в Самару. Занимаясь теоретической разработкой важнейших положений марксизма, Николай Евграфович не прекращает практической работы – пропаганды социал-демократических идей среди рабочих Орехово-Зуева. Будучи глубоко уверен, что будущее России за рабочим классом, он помогает кружковцам разработать «программу для рабочих», в которой, по словам жандармов, «указывается на необходимость объединения рабочих в видах достижения политической свободы и уничтожения экономической зависимости от их врагов-хозяев, путем ниспровержения существующего государственного и общественного строя, причем в подтверждение некоторых соображений автор ссылается на сочинение политического эмигранта Плеханова, а затем излагает выработанную социалистом К. Марксом «программу рабочих»32. Именно это практическое дело не давало ему возможности в это время оставить Владимир и перебраться в Самару. Но это не прервало связь между В.И. Лениным и Н.Е. Федосеевым. В дальнейшем именно эти обстоятельства определили форму контактов между ними - переписка с обсуждением важнейших вопросов социал-демократического движения в России.
Оказавшись в тюрьме, Н.Е. Федосеев стремится прежде всего дать знать о себе М.Г. Гоп-фенгауз. Это необходимо ему для того, чтобы Мария Германовна успела своевременно предупредить о его аресте знакомых в других городах, с тем чтобы на его адрес не поступало больше корреспонденций. В то же время Н.Е. Федосеев прилагал усилия для разрешения ему переписки с М.Г. Гопфенгауз, а через нее – с В.И. Лениным и самарскими единомышленниками. То обстоятельство, что Н.Е. Федосеев содержался в тюрьме и находился под следствием, обусловило ее содержание. Это была научно-литературная переписка, содержавшая материалы по истории общественной мысли, экономике, статистике, крестьянскому хозяйству, литературе и т.д. Именно по многим вопросам этих отраслей знаний развернулась тогда борьба между социал-демократами и народниками.
Уже 14 сентября 1892 г. (т.е. через три дня после ареста. – С.Ф.) Н.Е. Федосеев через начальника тюрьмы обращается к начальнику Владимирского ГЖУ с просьбой отправить в Самару на имя М.Г. Гопфенгауз телеграмму. Но получает отказ33. Н.Е. Федосеев вновь пишет прошение и опять ему отказывают. Причина отказа формулируется следующим образом: «Переписка с посторонними лицами, состоящим под следствием не дозволяется»34. Лишь 8 октября 1892 года Н.Е. Федосеев получает телеграмму из Самары. Г. Никифоров полагает, что одно из прошений Николая Евграфовича «смилостивило главного владимирского жан-дарма»35. Думается, что дело обстояло иначе. Ни о каком гуманизме и речи быть не могло. Жандармы почти месяц запрещали ему вести переписку, ожидая получения на его адрес корреспонденции, и не хотели, чтобы Н.Е. Федосеев раскрыл место своего пребывания. Но они ничего не дождались. Уезжая из Владимира, Мария Германовна понимала, что ожидает Николая Евграфовича и успела вовремя предупредить его друзей.
Но, разрешив переписку, жандармы внимательно просматривали все отправляемое и получаемое Н.Е. Федосеевым. В одном из писем к М.Г. Гопфенгауз от 8 ноября 1892 г. Николай Евграфович язвительно высказался против запрещения читать газеты и журналы и отметил, что запрет этот давно является «анахронизмом» и «оказывается не более как ору- дием утонченного мучения и пытки…». Подверг он критике и другие тюремные порядки36. Этого оказалось достаточно, чтобы разгневать жандармов. Адъютант управления в рапорте от 11 ноября 1892 года докладывал начальнику Владимирского ГЖУ: «Возвращая при сем почтовый конверт политического арестанта Федосеева имею честь просить…выдать таковое обратно Федосееву, сделав ему выговор за неуместные в письме его выражения по отношению к существующим порядкам в России и предупредить Федосеева, что письма с подобным содержанием не будут переданы по адресу и впредь за подобные выражения он будет подвергнут аресту с содержанием в тюремном карцере…»37. По поводу этого письма Н.Е. Федосеев вынужден был давать объяснения жандармам38.
Случаи невыдачи писем Марии Германовны Н.Е. Федосееву и возвращения ему собственных писем из-за того, что их содержание «не нравилось» жандармам, имели место неодно-кратно39. Жандармы не раз напоминали Николаю Евграфовичу, что «на основании существующих законов…письма могут быть отправлены только кровным родным, как-то: матери, братьям, сестрам и что если допускается переписка его с г-ой Гопфенгауз, то это лишь снис-хождение»40. Но вряд ли это было снисхождением. В то же время в жандармских документах говорилось о нехватке фактов и неполном выяснении деятельности Н.Е. Федосеева41.
Стремясь искоренить крамолу, жандармы не останавливались даже перед нарушением собственных инструкций. При этом они ссылались на «Правила о порядке содержания политических арестантов в губернских и уездных тюремных замках и пересыльных тюрьмах», утвержденные 28 февраля 1886 г.42. Однако параграф двадцать первый второго раздела этих правил не ограничивает круг корреспондентов арестованного43. Видимо, сначала жандармы хотели морально сломить Н.Е. Федосеева, стремясь внушить ему мысль о возможности запрещения переписки. Кроме того, еще находясь в одиночке «Крестов», Н.Е. Федосеев имел возможность получать письма от своих единомышленников -Е.А. Саниной, П.Н. Скворцова и даже от находившегося в той же тюрьме П.В. Балашова и других лиц44. Да и последующим своим поведением владимирские жандармы противоречили сами себе: передали Н.Е. Федосееву письмо от его соратника по революционным кружкам В.В. Кривошея, также содержавшегося в этой тюрьме, «дозволяли» переписку с М.Г. Гопфенгауз, хотя Николай Евграфович до 26 декабря 1892 года находился под следствием. Скорее всего в последующем жандармы руководствовались исключительно интересами следствия и при нехватке информации о деятельности Н.Е. Федосеева искали любую возможность восполнить ее дефицит.
Даже во владимирской тюрьме Н.Е. Федосеев не прервал своих научных занятий, исследуя экономическую и политическую жизнь России. Но его работе мешало то обстоятельство, что он мог пользоваться только ограниченным кругом источников и литературы. Согласно правилам о содержании политических арестантов в тюрьме ему дозволялись «письменные занятия» и чтение книг, но «исключительно…серьезного и научного содержания и при том не иначе как просмотренных прокурорским надзором или чинами жандармского корпуса по принадлежности. Смотрителям тюремных замков воспрещается принимать, хотя бы для доставления прокурорскому надзору, каких-либо книг, приносимых для заключенно-го…»45. В связи с этим утверждение С. Щепрова о том, что оставшиеся на воле товарищи «снабжали…литературой» Н.Е. Федосеева, кажется нам весьма далеким от реальности46.
Отсутствие необходимых для работы книг в тюремной библиотеке Н.Е. Федосеев пытался частично компенсировать получением таковых из частной библиотеки Калачевской (Библиотека была открыта А.К. Калачевской 24 августа 1889 г. В ней имелись и нелегальные издания. – С.Ф.)47. К сожалению, точно неизвестно, было ли получено им такое разрешение. По некоторым данным жандармы отказали в получении книг из данной библиотеки48. Вполне вероятно, что прочитанные им книги «Воспитание в возрасте первого детства» и
«Польское безкоролевье» были получены из частной библиотеки. На это указывают жандармские документы о выдаче и возврате книг49. Но такая литература, видимо, не удовлетворяла Николая Евграфовича, и больше упоминаний об этом в жандармских документах не встречается.
К этому приему Н.Е. Федосеев прибег не случайно: еще в казанской тюрьме и позже в «Крестах» он мог покупать и выписывать книги, читать периодику50. Но потом тюремный режим в этом отношении стал строже. Это видно из письма Н.Е. Федосеева Е.А. Саниной 10 февраля 1892 года: «В конце нашего пребывания в «Крестах» утверждено правило о «чтении книг», по которому воспрещается выписка книг, не разрешенных для тюремных библиотек Главным тюремным управлением, в том числе английских книг вообще (а на французском и немецком языках можно покупать лишь Гете, Шиллера и Шекспира), книг по политической экономии, химии, крестьянскому вопросу и проч.»51. Если в «Крестах» эти положения только вводились, то во владимирской тюрьме они уже действовали. Поэтому Н.Е. Федосееву не выдали многие из тех книг, которые прислала М.Г. Гопфенгауз из Самары: «L’evolution juridique» («Юридическая эволюция». - С.Ф.) профессора Ш. Летурно, Н.В. Рейнгардт «Женщина перед судом уголовным и судом истории», две книги Г. Спенсера «Грядущее рабство» и «Научные, политические и философские опыты», Ю.Г. Жуковского «Прудон и Луи Блан» и другие52. (Николай Викторович Рейнгардт – в 1889-1894 гг. редактор газеты «Волжский вестник». - С.Ф.). В них излагались взгляды либеральной буржуазии по вопросам экономики, государственного устройства, философии, социологии, этики. Эти книги были крайне необходимы Н.Е. Федосееву для работы и критики взглядов либеральных народников. Позднее они были отправлены по просьбе Н.Е. Федосеева назад в Самару М.Г. Гопфенгауз с объявлением, что «таковые не могут быть отданы для чтения политическому арестованному Николаю Федосееву»53.
Некоторые из книг, посланных М.Г. Гопфенгауз, он все же получил: «Карно М.Ф. «Песс-симизм XIX века», биографию В.Г. Белинского, Ю.Г. Жуковский «Политические и общественные теории XVI века», Н.П. Семенов «Освобождение крестьян» т. 2, Курк «Практическая грамматика английского языка», французско-русский словарь и т.д.54 Но этих книг Николаю Евграфовичу было явно недостаточно для его работы.
Учитывая то обстоятельство, что занятия научными исследованиями жандармами разрешались, Н.Е. Федосеев в письмах к М.Г. Гопфенгауз в Самару просит сообщать ему необходимые сведения. Николай Евграфович запрашивает у М.Г. Гопфенгауз данные о попытках увеличения заработной платы, об экспорте русского хлеба за границу и т.д.55 Некоторые нужные ему цифры он почерпнул из отобранных впоследствии у него номеров «Вестника финансов, промышленности и торговли» и газет «Русские ведомости»56, отосланных им позднее в Самару М.Г. Гопфенгауз57. Но даже письма «научного» содержания не всегда выдавались Николаю Евграфовичу. В связи с этим он в одном из писем к Марии Германовне писал: «Мне думается, что если бы ты знакомила меня не с целой серией фактов разом, а с отдельными обстоятельствами, хотя бы и в хронологической последовательности, то такие письма не решались бы задерживать и резать, потому что закон не допускает для политиков знакомиться лишь с текущей действительностью»58.
ВЫВОДЫ
Представленные материалы являются продолжением исследования связей В.И. Ленина и самарских социал-демократов с Н.Е. Федосеевым. Это помогает яснее представить эту малоизвестную страницу раннего этапа революционной деятельности В.И. Ленина, подробнее осветить существовавшую между ними переписку. В предшествующих публика- циях авторы не ставили перед собой задачи подробного освещения связей В.И. Ленина с Н.Е. Федосеевым. Они основывались на воспоминаниях самого Владимира Ильича, опубликованных письмах Н.Е. Федосеева к М.Г. Гопфенгауз, некоторых архивных документах. Предпринятые автором исследования позволяют более точно установить время первых контактов В.И. Ленина и самарских марксистов с Н.Е. Федосеевым, выявить некоторые ранее неизвестные факты, касающиеся содержания Николая Евграфовича во владимирской тюрьме, в связи с чем поставить под сомнение свидетельства некоторых современников и версии отдельных авторов, указывающих на возможность снабжения Н.Е. Федосеева в тюрьме нелегальной литературой. Введенные в научный оборот новые архивные материалы позволяют существенно расширить известный нам круг источников, с которыми работал в тюрьме Н.Е. Федосеев и которые впоследствии легли в основу его рефератов. Были выявлены и некоторые новые факты, касающиеся пребывания М.Г. Гопфенгауз в Самаре, ее связи с местным подпольем. Таким образом, обобщение ранее известных данных и введение в научный оборот новых материалов позволило более точно и подробно осветить связи В.И. Ленина и его соратников с Н.Е. Федосеевым, представить авторское обоснование спорных вопросов.