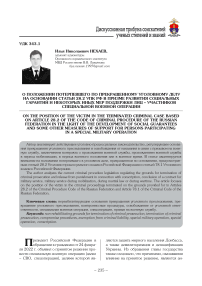О положении потерпевшего по прекращенному уголовному делу на основании статьи 28.2 УПК РФ в призме развития социальных гарантий и некоторых иных мер поддержки лиц – участников специальной военной операции
Автор: Нехаев И.Н.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна соискателей ученых степеней и званий
Статья в выпуске: 2 (59), 2025 года.
Бесплатный доступ
Автор анализирует действующее уголовно-процессуальное законодательство, регулирующее основания прекращения уголовного преследования и освобождения от наказания в связи с призывом на военную службу, заключением контракта о прохождении военной службы, прохождением военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время. В статье акцентируется внимание на положении потерпевшего в уголовном деле, прекращенном по основаниям, предусмотренным статьей 28.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 78.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Нереабилитирующие основания прекращения уголовного преследования, прекращение уголовного преследования, компромиссные процедуры, освобождение от уголовной ответственности, специальная военная операция, спецоперация, призыв на военную службу
Короткий адрес: https://sciup.org/140310225
IDR: 140310225 | УДК: 343.1
Текст научной статьи О положении потерпевшего по прекращенному уголовному делу на основании статьи 28.2 УПК РФ в призме развития социальных гарантий и некоторых иных мер поддержки лиц – участников специальной военной операции
П резидент Российской Федерации в обращении к гражданам от 24 февраля 2022 г. объявил о принятом решении провести специальную военную операцию (далее – СВО, спецоперация), целями которой яв- ляются защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Из обращения главы государства также следовало, что причинами, оказавшими влияние на принятое решение, являются ан- тироссийская политика, двойные стандарты в применении актов международного права, а кроме этого агрессия Украины, которая создает угрозу жизни и здоровью жителей Донбасса, угрозу суверенитета и национальной безопасности нашей страны в целом.1 Правовой основой к проведению спецоперации выступили следующие правовые акты: статья 51 главы VII Устава ООН и ратифицированные Федеральным Собранием РФ договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, подписанные в г. Москве 21 февраля 2022 г.
Постепенная реализация указанных целей, поставленных главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации (далее – ВС РФ) перед гражданами страны, ставили новые задачи законодательным органам, научному сообществу и обществу в целом, которые требовалось разрешить. Все это, к тому же в условиях сложившихся негативных внешнеполитических обстоятельств, привело к поиску новых путей привлечения к участию в спецоперации большего количества лиц, «желающих», как отмечал пресс-секретарь президента Российской Федерации Д.С. Песков в ноябре 2023 г., «искупить свои преступления кровью на поле боя»2. Так появлялись новые правовые механизмы и законодательные инициативы, направленные на защиту участников специальной военной операции, а также их семей. Впоследствии данные нововведения, регулирующие социальные гарантии, медицинское обслуживание военнослужащих, неоднократно анализировались в юридической литературе [3, с. 78; 5, с. 7].
Сейчас в зоне выполнения специальной военной операции находится контингент российских Вооруженных Сил, состоящий из профессиональных военных, а также лиц, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование, но производство по уголовному делу в отношении которых прио- становлено на основании п. 3.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с призывом подозреваемого или обвиняемого на военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы Российской Федерации либо заключение ими в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также прохождение ими военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения или в военное время (далее – заключение контракта с ВС РФ). Каждая из приведенных групп обладает своим юридическим статусом, гарантиями и правами. Более подробно остановимся на последней категории, тем более, что такой механизм был имплементирован в уголовно-процессуальное поле менее года назад, что продиктовано государственной необходимостью, а в настоящее время он своевременен, приоритетен и востребован.
УПК РФ закреплена возможность освобождения от уголовной ответственности и наказания посредством заключения контракта в отношении следующих субъектов: во-первых, это обвиняемые в совершении преступлений на стадии предварительного расследования, во-вторых, осужденные, в отношении которых приговор вступил в законную силу и, в-третьих, осужденные, в отношении которых приговор в законную силу не вступил. Ранее последняя указанная группа субъектов не имела правовых инструментов заключения контракта, однако такая ситуация была разрешена принятием Федерального закона от 2 октября 2024 г. N 340-Ф3 «О внесении изменений в статью 781 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
Освобождение от уголовной ответственности происходит в соответствии со следующим порядком и при наличии следующих условий. Во-первых: лицо признает себя ви- новным в совершении преступления, в котором подозревается или обвиняется. Кроме того, при принятии такого решения не имеют значения:
-
а) наличие или отсутствие судимости, степень тяжести деяния;
-
б) тот объект уголовно-правовой охраны, неприкосновенность которого была нарушена преступлением, за исключением закрепленных составов преступлений, содержащихся в ч. 1 ст. 78.1 УК РФ;
-
в) когда совершено преступление: во время прохождения, или до поступления на службу.
Во-вторых: освобождению от ответственности подлежат только строго определенные категории лиц согласно Федеральному конституционному закону от 30 января 2002 г. N 1-ФКЗ «О военном положении», федеральным законам от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»:
-
а) призванные на военную службу в период мобилизации, то есть граждане, находящиеся в запасе, не имеющие права на отсрочку;
-
б) граждане, призванные в объявленное военное время – положение, объявляемое отдельным федеральным законом, при нападении на Российскую Федерацию иного государства или группы таких государств, или в случае выполнения международных договоров;
-
в) заключившие в период мобилизации или военного времени контракт о прохождении военной службы в ВС РФ;
-
г) граждане, с которыми заключен контракт во время введения особого правового режима, вводимого Президентом РФ в соответствии с Конституцией Российской Федерации, – то есть во время реальной или непосредственно возможной агрессии на территории России.
В-третьих: условием освобождения лица, привлеченного к уголовной ответственности или наказанию, является наступление одного или нескольких юридических фактов: награждение государственной наградой в период прохождения военной службы либо увольнение с военной службы по указанным в законе основаниям, а именно:
-
а) достижение лицом предельного возраста пребывания на военной службе (50 лет для мужчин и 45 лет для женщин);
-
б) признание военно-врачебной комиссией такого гражданина не годным к военной службе по состоянию здоровья;
-
в) окончание периода мобилизации; отмена (прекращение) военного положения и (или) истечение военного времени.
После заключения контракта и получения следователем ходатайства войсковой части (учреждения) о приостановлении уголовного дела (уголовного преследования) оно приостанавливается, а бывший обвиняемый, подсудимый или осужденный становится военнослужащим ВС РФ с соответствующей ему конкретной должностью и обязанностями. При этом на такое лицо и его семью отныне распространяются определенные социальные гарантии и льготы, а кроме них ему становятся положены денежные выплаты.
Так, согласно сведениям официального сайта мэра и Правительства Москвы, денежное довольствие, формируемое из федеральных выплат контрактникам, в зависимости от должности, звания, иных коэффициентов и факторов может составлять до 5,2 миллиона в год. Ежемесячная выплата (заработная плата) – от 210 тысяч в месяц (приведена в пример самая низкооплачиваемая должность – стрелок). Если такое лицо является ветераном боевых действий – доплата 4 188 рублей за полный календарный месяц. Единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы на срок не менее одного года составляет 400 000 рублей. Помимо изложенного единовременная выплата от региона Российской Федерации, в котором заключен контракт и от которого гражданин поступает на службу, составляет, например в г. Москве, 1 900 000 рублей. Таким образом, суммарно и субъективно, если контракт с гражданином заключен на территории г. Москвы, до исполнения им обязанностей по контракту на территории проведения специальной военной операции он получает от государства 2 300 000 рублей, что является значительной суммой денежных средств для среднестатистического гражданина России1.
Для объективности оценки обеспечения лиц, заключающих контракт, можно обратиться к сведениям-предложениям из других регионов. Например, используем город воинской славы Орел. На официальном сайте Орловского муниципального округа размещена информациях о выплатах при заключении контракта: 800 000 рублей выплата при заключении контракта от года, 400 000 рублей региональная выплата, 400 000 рублей федеральная выплата, условия оплаты труда – те же. Итого суммарно до исполнения обязанностей по контракту на территории проведения специальной военной операции гражданин, заключивший контракт, получает 1 600 000 рублей. Разница между субъектами существует, однако сумма тем не менее остается значительной2.
Оба контракта, заключенных в разных регионах, объединяют совпадающие федеральные социальные льготы, меры поддержки и гарантии. К ним относятся компенсация 50% стоимости приобретения жилья за счет ВС РФ, через ипотечную систему; льготы детям при поступлении в учебные учреждения; защита семей от финансовой нагрузки при исполнении кредитных обязательств (в случае гибели); дополнительные меры пенсионного обеспечения; освобождение от комиссии при оплате ЖКХ; налоговые льготы; защита от списания долгов. Заметим, что указанные федеральные меры распространяются на всех лиц, заключивших контракт, в том числе заключивших его во время расследуемого в отношении них уголовного дела.
Такой значительный объем выплат и социальных поощрений, безусловно, необходим и обусловлен фактами реальной действительности. Вместе с тем среди имеющихся мер материальной поддержки отсутствуют какие-либо выплаты лицу, пострадавшему в случае совершения в отношении него преступления. Изложенное п одчеркивает ущемленное по-
Официальный портал мэра и Правительства Москвы. URL: (дата обраще-
ложение потерпевшего по приостановленному уголовному делу в такой ситуации. Наступление благоприятных для обвиняемого/ подсудимого/осужденного лица последствий в виде приостановленного, а в дальнейшем и прекращенного уголовного дела не поставлено законодателем в зависимость от совершенного им преступления и возмещения вреда пострадавшему лицу. То есть необходимость восстановления положения потерпевшего и заглаживания причиненного преступлением ущерба не нашла отражения в диспозиции ст. 28.2 УПК РФ. Обязанность восстановления нарушенных общественных отношений не предусматривается и обусловлена искуплением вины перед государством и обществом, как превалирующим значением участия в СВО.
Отметим, что указанная статья имплементирована в УПК РФ с 23 марта 2024 г. Федеральным законом от 23 марта 2024 г. N 64-ФЗ, однако процесс ее закрепления в УПК РФ предварял ряд неодобренных законопроектов. Л.В. Головко, отмечая неоднократность предлагаемых поправок при рассмотрении проектов федерального закона, справедливо называл причину отказов, связанную с попытками введения такого обязательного условия освобождения от уголовной ответственности и наказания участника СВО, как возмещение вреда потерпевшему, обращая внимание на то, что в противном случае это приведет существование нормы к бессмысленности [1, с. 32].
Интерес к данной норме очевиден, что подтверждается ее востребованностью в правоприменительной деятельности и совершенствованием ее диспозиции уже в первый год применения Федеральным законом от 2 октября 2024 г. N 340-ФЗ.
Появление процессуальной новеллы юридическим сообществом было воспринято неоднозначно. В частности, Н.Н. Загвоздкин и Е.О. Коршикова отмечают, что «законодательное урегулирование обсуждаемого процесса происходило с малой долей успеха и не соответствовало запросам социума, относительно округа. URL: справедливости». Научное сообщество также было озабочено вопросами юридической техники ее применения: «Законодательство нуждалось в дальнейшей модернизации, которое до настоящего времени невозможно признать совершенным» [4, с. 225]. С другой стороны, В.В. Суров считает, что введенное законодателем новое регулирование вопросов о прекращении уголовного дела и/или уголовного преследования в отношении участников спе-цоперации, несмотря на очевидную необходимость в доработке, вполне пригодно для использования. При этом ученый отмечает, что законодателем учтены принципы гуманизма, правовой определенности и необходимости осуществления судопроизводства в разумный срок [7, с. 286].
Мнения ученых отражают актуальность действующих механизмов прекращения уголовного преследования, своевременны и необходимы. Вместе с тем нам представляется, что точку зрения Д.Ю. Гончарова и С.Г. Гончаровой об ухудшении новым законом положения потерпевших, а также игнорирование их воли при решении вопроса о приостановлении и/или прекращении уголовного преследования [2, с. 108] нельзя не учитывать.
Е.А. Семенов также отмечает, что восстановление прав потерпевшего в рамках уголовного судопроизводства остается неразрешенным, а все возникающие вопросы относительно возмещения вреда лицами, которые освобождены от наказания и ответственности по основаниям ст. 78.1 УК РФ и в порядке ст. 28.2 УПК РФ, могут быть разрешены исключительно в исковом порядке гражданского судопроизводства [6, с. 262].
Как пишет А.Ю. Цветков, только алхимическое взаимодействие закона и совести могут и должны превратиться в справедливость [8, с. 18], что при рассмотрении обсуждаемой нормы вступает в конфронтацию с реальной ситуацией. Например, к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорен Р. за совершение следующих преступлений: угроза убийством, изна- силование и убийство с особой жестокостью лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии1. Указанный осужденный является экс-бойцом ЧВК «Вагнер», был и ранее привлечен к уголовной ответственности, осужден и амнистирован по решению Президента РФ с целью выполнения задач на территории проведения СВО. В действительности, этот пример не полностью подпадает под критерии рассматриваемой ст. 28.2 УПК РФ, однако такая ситуация может произойти и с применением ее положений, поставив новые вопросы перед научным сообществом и законодателем, которые могут выглядеть следующим образом:
– достигнуты ли цели наказания, такие как исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений;
– является ли справедливым освобождение от уголовной ответственности без учета мнения потерпевшего?
Так, рассматриваемое основание прекращения уголовного дела, расположенное в кодексе следом за иными альтернативными уголовному преследованию механизмами, такими как прекращение уголовного преследования по примирению сторон (ст. 25 УПК РФ), назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ), в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ), возмещением вреда (ст. 28.1 УПК РФ), будет более востребовано рассматриваемой категорией лиц по очевидной причине – превалирующим значением участия в СВО, искуплением таким образом вины перед государством и обществом, что автоматически повлечет за собой отказ от иных вариаций освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных в законе. Иными условиями востребованности такого механизма прекращения уголовного дела и/или уголовного преследования являются следующие детерминирующие факторы, например: отсутствие внимания к совершенным ранее преступлениям (привлечение к ответственности впервые/судимость), к категории совершенного преступления (степень тяже- сти), а также к компенсационным мерам. Все это не является правовосстанавливающим в реализации положений ст. 28.2 УПК РФ, а кроме этого сильно отличает ее от иных закрепленных главой 4 УПК РФ механизмов, позволяющих прекратить уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям, что, к сожалению, оказывает дискриминирующее влияние на положение потерпевших.
Так как же тогда восстановить права потерпевшего? Тем более что Конституция РФ в ст. 52 содержит обязанность компенсации причиненного вреда от преступления. Кроме этого УПК РФ в ст. 6 устанавливает приоритет их обеспечения в уголовно-процессуальных правоотношениях. Этот вопрос в рамках уголовного судопроизводства остается пока риторическим.
Если по большинству преступлений проблема возмещения вреда, причиненного преступлением, зачастую заключается в том, как привлечь денежные средства для компенсации в том случае, если обвиняемый не является платежеспособным лицом, а также не имеет имущества, подлежащего наложению на него обременений, то в рассматриваемом случае сумма для компенсации/возмещения причиненного ущерба предоставляется государством и по смыслу ст. 52 Конституции РФ государство, пусть и опосредованно, но осуществляет компенсацию преступного вреда от преступления. То есть заключительным является этап распоряжения этими денежными средствами. Особенно актуальным это представляется при том, что материальный ущерб по общеуголовным преступлениям не так велик, как та сумма, которая выплачивается при заключении контракта.
Мы считаем логичным то, что должны быть внесены изменения в типовую форму контракта и в типовую форму ходатайства командования воинских частей (учреждений) таким образом, чтобы в них присутствовал пункт, отражающий сумму причиненного преступлением вреда, процент его возмещения, а также пункт, в котором отмечалась бы обязанность в последующем довозместить причиненный преступный вред в случаях, если сумма превышает или кратно превышает вы- плаченную от государства. Также возможен процентный подход, который предполагал бы минимальный процент возмещения материального вреда потерпевшему в, например, 10%, но не менее, например, 100 тыс. руб.
Кроме того, указанный выше механизм, связанный с приостановлением уголовного дела, мог бы входить во взаимодействие с этапом прекращения уголовного дела. Статья 28.2 УПК РФ содержит требование, адресованное следователю или дознавателю, согласно которому последний должен получить согласие на прекращение уголовного преследования от обвиняемого, подсудимого, осужденного, уголовное дело в отношении которого ранее было приостановлено в связи с заключением контракта. Автор считает возможным распространение похожего требования относительно потерпевшего, который не только выражает согласие или наоборот, а предоставляет сведения, согласно которым следователь убеждается в действительности возмещения вреда или в отсутствии такового, что служило бы основанием к прекращению уголовного преследования или отказу в этом командованию воинской части.
Подводя итог размышлениям, автор считает необходимым отметить тот факт, что само основание прекращения уголовного дела и новые уголовно-правовые нормы следует считать поощрительными, а освобождение лица от ответственности на их основании – нереабилитирующими и требующими для наступления (в настоящее время) согласия на это лица, подлежащего уголовной ответственности. В настоящее время в условиях проведения СВО такой механизм освобождения от уголовной ответственности выглядит действительно введенным своевременно и закономерно. К тому же такой правовой институт в истории отечественного права уже неоднократно появлялся и известен [9, с. 201]. С другой стороны, нам представляется, что не все положения данных правоотношений, выраженные в уголовных и уголовно-процессуальных нормах, изложены конструктивно, то есть требуют уточнения и изменения, так как приводят к явному дисбалансу между статусами участвующих субъектов.