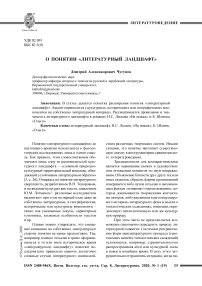О понятии "литературный ландшафт"
Бесплатный доступ
В статье делается попытка расширения понятия «литературный ландшафт». Акцент переносится с культурных, исторических или географических компонентов на собственно литературный материал. Рассматривается проявление и значимость литературного ландшафта в романах Н.С. Лескова «На ножах» и Б. Шлинка «Ольга».
Литературный ландшафт, н.с. лесков, "на ножах", б. шлинк, "ольга"
Короткий адрес: https://sciup.org/149130533
IDR: 149130533 | УДК: 82.091
Текст научной статьи О понятии "литературный ландшафт"
Понятие «литературного ландшафта» до настоящего времени используется в филологических исследованиях лишь в одном смысле. Как правило, этим словосочетанием обозначают лишь одну из разновидностей культурного ландшафта – «сложный природнокультурный территориальный комплекс, обладающий устойчивым литературным образом» [3, с. 26]. Опираясь на понятие литературного сверхтекста, разработанное В.Н. Топоровым, и на видение культуры как текста, заявленное Ю.М. Лотманом 1, различные исследователи выдвигают при этом на первый план даже не собственно литературные, а географические, исторические или культурные компоненты – такие, как узнаваемые локусы, характерные топонимы, языковые особенности текстов и пр.
Однако можно утверждать, что смещение внимания на собственно литературную сторону понятия не менее продуктивно. Так, например, именно отсылка к зримо оформившемуся в то или иное историческое время «литературному ландшафту» помогает исследователю правильно оценить достаточно сложные случаи литературного взаимодей- ствия различных творческих систем. Иными словами, это понятие заполняет существующую лакуну в инструментарии сравнительного литературоведения.
Традиционным для компаративистики является оценивание схожих в художественном отношении моментов по двум направлениям. Объяснение близости друг другу тех или иных сюжетов, образов, формы произведений совершается либо путем отсылки к несомненным фактам «влияния»/«заимствования», которые доказываются творческими контактами авторов, либо введением в разговор широкого историко-литературного фона и мысли о типологических схождениях, имеющих определенную психологическую или же культурную природу.
При этом часто не представляется возможным однозначно определить природу литературной схожести. Системное разграничение форм межлитературного процесса (генетических связей и типологических схождений) осложняется, например, стремительностью распространения идей или культурной моды в новое и новейшее время. В силу этого затруднительно отграничить ситуацию, когда пи- сатель Х действительно воспринял что-то из произведений писателя Y, от ситуации, в которой оба и почти одновременно сделались адептами какой-либо общественной философии или приверженцами какого-либо популярного художественного стиля. Кроме того, следует учитывать размывание в современной компаративистике некогда принципиального требования о сопоставлении друг с другом лишь произведений разной национальной природы. Это связано с усложнением форм мирового литературного процесса, что уже вызвало закономерное появление категории межлитературности в исследованиях (см., напр.: [8]).
Под литературным ландшафтом в этой связи возможно понимать и сложившуюся в определенный исторический момент совокупность художественных и публицистических произведений, воспринимаемую как данность и входящую в общественное сознание в качестве одного из элементов существующего порядка вещей. При этом личностное творческое начало в произведениях, в обычной ситуации естественным образом обособляющее авторов друг от друга, заметно ослабевает, уступая место возможности служить несомненным маркером исторического момента или момента в развитии общественной мысли.
Покажем это на двух примерах, взятых нами из русской классической литературы XIX в. и, для сравнения, из новейшей немецкой литературы.
В первом случае речь будет идти о романе Н.С. Лескова «На ножах», печатавшемся в журнале «Русский вестник» в 1870– 1871 гг., во втором – о романе Б. Шлинка «Ольга», вышедшем в 2018 году. В обоих литературный ландшафт играет значимую роль для понимания авторского замысла.
Роман Лескова давно находится в поле зрения литературоведов. Не ставя перед собой цели приводить здесь обзор существующей критической литературы о произведении, заметим только, что общим местом в ней стало сопоставление его с романами «Взбаламученное море» и «В водовороте» А.Ф. Писемского, «Марево» В.П. Клюшникова, «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, «Панургово стадо» Вс. Крестовского, «Обрыв» И.А. Гонча- рова, «Бесы» Ф.М. Достоевского, «Перелом» и «Бездна» Б. Маркевича, «Злой дух» В. Авсеенко… (см., напр.: [1; 4; 9]) Отдельно следует упомянуть и уже традиционное изучение «тургеневских» мест в лесковском повествовании (см., напр., [6]). Указание на общую ситуацию философско-религиозной полемики, ведшейся в русском обществе 1860– 1870-х гг., является для нас подготовительным шагом для того, чтобы связать художественную практику Лескова и окружающий автора идейный фон.
Обратим внимание на самое начало второй части романа Лескова. Представляя одного из главных персонажей, автор прибегает к интереснейшему развернутому сравнению: «Горданов не сразу сшил себе свой нынешний мундир: было время, когда он носил другую форму. Принадлежа не к новому, а к новейшему культу, он имел пред собою довольно большой выбор мод и фасонов: пред ним прошли во всем своем убранстве Базаров, Раскольников и Маркушка Волохов, и Горда-нов всех их смерил, свесил, разобрал и осудил: ни один из них не выдержал его критики. Базаров, по его мнению, был неумен и слаб – неумен потому, что ссорился с людьми и вредил себе своими резкостями, а слаб потому, что свихнулся пред «богатым телом» женщины, что Павел Николаевич Горданов признавал слабостью из слабостей. Раскольникова Горданов сравнивал с курицей, которая не может не кудахтать о снесенном ею яйце, и глубоко презирал этого героя за его привычку беспрестанно чесать свои душевные мозоли. Маркушка Волохов (которого Горданов знал вживе) был, по его мнению, и посильнее и поумнее двух первых, но ему, этому алмазу, недоставало шлифовки, чтобы быть бриллиантом, а Горданов хотел быть бриллиантом и чувствовал, что к тому уже настало удобное время» [5, с. 214].
Мы намеренно приводим цитату в полном объеме, чтобы показать ее неслучайность. Для критики и публицистики было бы вполне естественным использовать определения, подчеркивающие общественно-значимый тип того или иного героя, как это могло происходить с «лишними» или «маленькими» людьми, а также «байроническими» натурами. Однако в данном случае Горданов, являющий- ся не критиком, а персонажем, то есть существом вымышленным, парадоксальным образом сверяет свою жизнь с жизнью других, таких же вымышленных, персонажей.
Более того, длинный абзац, посвященный представлению героя, оставляет при прямом прочтении весьма расплывчатое впечатление о нем. Что это за «культ», к которому он принадлежал? Какие душевные мозоли и в каких ситуациях не стоило бы чесать сильному человеку? В чем заключается шлифовка «алмаза» в человеке? Единственное, что о чем можно говорить со всей определенностью, – это о желании Горданова не походить на других.
Разумеется, его личность вырисовывается перед читателем со всей определенностью. Горданов несомненно принадлежит к числу так называемых «нигилистов», начавших перерождаться в нечто новое. При этом использование Лесковым имен Базарова, Раскольникова или Волохова нельзя назвать плагиатом, как нельзя назвать случайным и их появление в тексте. Подобная двойственность ситуации способна завести литературоведа в тупик, ибо один из постулатов «классического» сравнительного литературоведения состоит в том, что сравнению, сопоставлению должны подвергаться произведения, относящиеся к разным национальным литературам. В нашем же случае рядом оказываются авторы и романы одной литературы и даже одного времени.
Для объяснения использованного Лесковым творческого хода следует прибегнуть к понятию «литературного ландшафта». Давно уже и справедливо отмечено, что русская культура имеет отчетливо выраженную литературоцентричную природу 2. Именно художественная литература открывает возможность мыслить образами, следствием чего становится рождающееся соответствие между идейной полемикой той или иной эпохи и определенным количеством художественных произведений, в которых эта полемика воспроизводится и узнается с наибольшей силой. Именно они и образуют узнаваемый литературный ландшафт эпохи.
Лескову было достаточно просто упомянуть имена из романов Тургенева, Достоевского и Гончарова, чтобы в сознании русского читателя мгновенно возникла ассоциативная связь с дискуссиями о нигилистах и о путях общественного развития России.
Не менее интересен в этом же отношении роман Б. Шлинка «Ольга». Это произведение написано в лучших традициях немецкого интеллектуального романа, требующего от читателя не столько сосредоточения на увлекательных перипетиях сюжета, сколько погружения в смысловую ткань повествования. При этом «Ольга» в лучшем смысле слова литературоцентрична, ибо ключевые моменты в романе открываются именно в аллюзиях, в скрытых отсылках к суждениям или поступкам героев Г. Бёлля, Г. Грасса и других классиков немецкой литературы. Вот лишь несколько примеров.
Так, у Шлинка возникают образы детей, одурманенных ура-патриотическими идеями. Описывая игры в войну, небывало популярные в начале Первой мировой войны, героиня вызывает в памяти их характерные подробности, боевые кличи, звучавшие в них: «Война хороша для… детей. Младшие и слабые должны в играх представлять сербов и англичан, а остальные бросаются на них с криками: “Сербия, вот смерть твоя!” и “Боже, Англию накажи!”» [10, с. 276]. Образованный читатель мгновенно вспомнит в этот момент скорбь бёл-левского персонажа из романа «Бильярд в половине десятого», который так же сокрушался о неправильном воспитании своего погибшего сына: «Я слышал, как внизу мой четырехлетний сынишка повторял: “Хочу ружье, хочу ружье…” Мне бы следовало спуститься вниз и высечь его в присутствии моей гордой тещи, но я позволил ему петь, позволил играть с уланским кивером, который мальчику подарили дяди, позволил волочить за собой саблю, позволил выкрикивать: “Французу каюк! Англичанину каюк! Русскому каюк!”» [2, с. 311].
Легко узнаваемая отсылка звучит и в словах заглавной героини, задумавшей взрыв памятника Бисмарку, которого она считает главным виновником немецких заблуждений ХХ века: «Я взорву Бисмарка. С него все и началось. Ты считаешь, что он сделал хорошее дело, – нет, это не правда. Может быть, люди задумаются об этом, когда он будет взорван» [10, с. 297]. На первый взгляд бессмысленное, ничем не мотивированное разрушение памятника представляет на самом деле символичес- кое деяние – такое же, как поступок Роберта Фемеля, взорвавшего в романе Бёлля аббатство Святого Антония. Поступки обоих персонажей вызваны протестом против общественного лицемерия, против искажения истории, в которой теряется ценность человеческой жизни.
Метафоры, используемые автором в «Ольге», также часто узнаются именно в литературном контексте. Так, на судьбу бёллевско-го Шреллы, не пожелавшего по окончании войны вернуться на родину, проецируются слова Ольги «Германия стала мне чужой» [10, с. 291]. В другом месте: однажды «у Ольги поднялась температура, она подумала, что подхватила грипп, прилегла, заснула, а наутро проснулась глухой» [10, с. 113]. Шлинк пишет здесь не о физической немощи, а об оглушении человека в крикливом мире, установившемся при нацистах, которые «везде понавешали репродукторов, из которых день-деньской гремели речи, лозунги, призывы, военные марши, от них некуда было деться» [10, с. 115]. Похожая метафора глухоты, оглушения была вынесена Грассом в название романа «Под местным наркозом» (в оригинале он называется «Örtlich betäubt»).
Даже выстраивая сюжет романа, выводя на первый план те или иные идейные конфликты, Шлинк часто апеллирует к литературному фону, существующему в сознании образованного немецкого читателя. Так, например, символическое значение приобретает появление Ольги в некоем маленьком городке «на берегу Неккара». В отличие от других городов на востоке – «с разбитыми, сожженными, рухнувшими домами, со сгоревшими деревьями на улицах, в садах и парках, с полями развалин, где над кучами щебня торчали печные трубы или церковная колокольня или виднелась крыша бункера, с подвалами, куда люди прятались, юркнув, точно крысы» [10, с. 118], этот городок по-прежнему цел и уютен. Судьба Ольги проецируется здесь на судьбу бесприютного скитальца Гёльдерлина, родившегося в городе на Неккаре и жившего в тех же краях, посвящавшего стихотворения долинам Неккара и т. д. Именно Гёльдерлин высказал однажды мысль о том, что никто не повинен в бедах человека, кроме него самого. И именно здесь, в городе на Некка-ре, к Ольге приходит окончательное осозна- ние того факта, что, начиная со времен Бисмарка, немцы сами губили себя.
Таким образом Шлинк постоянно создает вокруг читателя определенный литературный ландшафт, сам при этом выступая в традиционной для немецкой литературы роли автора-интеллектуала, чьи произведения предназначены не для развлечения, но для сораз-мышления.
Думается, что в истории мировой литературы легко найти и другие случаи отчетливого обращения писателя к литературному ландшафту. В одних случаях это происходит, как мы видим, для определенной экономии художественных усилий, так как многое уже сказано и представлено и нет нужды повторять сказанное вновь. В других случаях – для систематизации существующих идейных споров и представлений о сущности эпохи. Пример Шлинка показывает, что это происходит на верхней границе исторической эпохи. Можно предположить также, что «литературный ландшафт» как художественный феномен является в принципе недолговечным явлением, ибо многие произведения с течением времени вообще уходят из круга чтения, забываются, а потому отсылки к ним уже ничего не значат в глазах читателей последующих поколений. Таким образом, этот вопрос требует дальнейшего изучения.
Список литературы О понятии "литературный ландшафт"
- Андреева, В. Г. Второе поколение русских нигилистов в восприятии Н. С. Лескова и В. Г. Авсеенко / В. Г. Андреева // Вестник КГУ. - 2014. - № 5. - С. 131-134.
- Бёлль, Г. О себе самом. Где ты был, Адам?: Рассказы; Бильярд в половине десятого. Глазами клоуна. Письмо моим сыновьям, или Четыре велосипеда / Г. Бёлль. - М.: НФ "Пушкинская библиотека": Изд-во "АСТ", 2004. - 728 с.
- Калуцков, В. Н. Литературный ландшафт и вопросы его развития (на материале Пушкиногорья) / В. Н. Калуцков, В. М. Матасов // Географический вестник. - 2017. -№ 1 (40). - С. 25-34.
- Конышев, Е. М. Художественное постижение нигилизма в произведениях Тургенева, Достоевского и Лескова / Е. М. Конышев, Е. О. Дорофеева // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. - 2014. - № 4. - С. 164-167.
- Лесков, Н. С. На ножах / Н. С. Лесков // Собр. соч.: в 12 т. - Т. 8. - М.: Правда, 1989. - 480 с.
- Новикова-Строганова, А. А. Добрая слава: Н. С. Лесков и И. С. Тургенев / А. А. Новикова-Строганова // Литературоведческий журнал. - 2018. - № 44. - С. 98-111.
- Перова, Е. Ю. Литературоцентричность русской культуры как особенность национального мировосприятия / Е. Ю. Перова // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. - 2014. - № 21 (707). - С. 152-159.
- Седельник, В. Д. Категория межлитературности и проблема национальной принадлежности писателя (на примере Швейцарии в ее взаимосвязях с родственными по языку странами) / В. Д. Седельник // Studia Litterarum. - 2016. - № 1-2. - С. 47-72.
- Старыгина, Н. Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860-1870-х годов / Н. Н. Старыгина. - М.: Языки славянской культуры, 2003. - 352 с.
- Шлинк, Б. Ольга / Б. Шлинк. - М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2018. - 304 с.