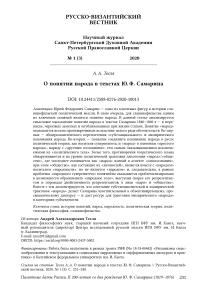О понятии народа в текстах Ю. Ф. Самарина
Автор: Тесля Андрей Александрович
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Памятные даты России. К 200-летию со дня рождения Ю. Ф. Самарина (1819-1876)
Статья в выпуске: 1 (3), 2020 года.
Бесплатный доступ
Юрий Федорович Самарин - одна из ключевых фигур в истории славянофильской политической мысли. В свою очередь, для славянофильства одним из ключевых понятий является понятие народа. В данной статье анализируется смысловое наполнение понятия народа в текстах Самарина 1840-1860-х - в переписке, черновых заметках и опубликованных при жизни статьях. Понятие «народ» оказывается весьма противоречивым вследствие целого ряда обстоятельств. Во-первых - общеромантического переплетения «субстанциального» и эмпирического понимания народа. Во-вторых - попытки соединить понимание народа в русле политической теории, как носителя суверенитета, и «народ» в значении «простого народа», наряду с «другими сословиями», тем самым оказывающимися исключаемыми из «политического тела». Более того, противоречия теоретического плана обнаруживаются и на уровне политической трактовки дихотомии «народ»/«общество», где последнее понимается как «народ» взятый в аспекте «самосознания», при этом «общество», как состоящее из «личностей», является вместе с «народом» носителем «народности», но не является «народом» и, следовательно, в рамках проблемы «народного суверенитета» понятийно оказывается проблематизировано в возможности образовывать «народное тело», выступая скорее его репрезентантом и порождая двойственность репрезентантов, в лице «царя» и «общества». Вместе с тем демонстрируется, что сочетание субстанциалистской и эмпирической трактовок «народа» делает Самарина чувствительным к объективирующему, просвещенческому дискурсу - и дает ресурс для трактовки эмпирического «народа» в категориях субъектности.
История понятий, народ, народность, политическая теория, политическая философия, славянофильство
Короткий адрес: https://sciup.org/140294759
IDR: 140294759 | DOI: 10.24411/2588-0276-2020-10013
Текст научной статьи О понятии народа в текстах Ю. Ф. Самарина
Понятие народа (populus, the people, nation, Volk, le people и т. д.) является одним из ключевых понятий европейской политической мысли. Это в достаточной мере относится к периоду после 1789 г., когда доктрина «народного суверенитета» становится основополагающей и понятие «народ» принципиально противопоставляется «толпе», «множеству». В руссоистской традиции, в свою очередь базирующейся на гоббсов-ской, «народ» конститутируется в акте «общественного договора», а «общая воля» принципиально различна от «воли всех» — если первая является волей «народа», т. е. единого субъекта, то вторая образуется количественно, через воление отдельных
людей, и если на практике к ней приходится прибегать, то лишь как к эмпирическому способу попытаться определить «общую волю». Эта конструкция является одной из — и вместе с тем наиболее успешной, по крайней мере в плане как теоретического, так и практического влияния — попыток ответить на вопрос, что именно служит основанием обязательности для нас решений, волений, на которые мы не давали собственного согласия, каким образом возможно требовать от меня признать некий порядок и быть лояльным по отношению к нему. Для этой конструкции совершенной необходимостью является конструирование парного по отношению к ней «естественного состояния», как это наиболее отчетливо видно у Гоббса: выход из гражданского состояния возможен для каждого конкретного индивида — ему нет необходимости, нет неизбежности пребывать среди «народа», но тем самым он оказывается в «естественном состоянии» права на все, т. е. в состо-

янии, когда вопрос о правовом не имеет Юрий Федорович Самарин.
смысла, поскольку «правом на все» облада- Фото 1850-х гг.
ют все и конкретное положение вещей явля ется вопросом сугубо фактическим. Вышедший в «естественное состояние» индивид оказывается — если речь не идет о состоянии гражданской войны — противостоящим не другим индивидам, а государству, в руссоистской логике — «народу», отсюда столь значимая для политического и юридического языка французской революции кон- струкция «врага народа».
В восходящей к Руссо — и через Руссо к Гоббсу — традиции говорить от лица «народа» может государство1, поскольку оно, собственно, и есть народ как политический субъект, и народ существует лишь до того момента, пока это условие соблюдается, его несоблюдение будет означать, что сам народ (прежний народ) прекратил свое существование, существуют лишь множества2.
Вместе с тем уже в первое десятилетие XIX в. понятие “Volk” («народ») в политическом языке обретает существенно иные смыслы, отсылающие к привычным предшествующим значениям, — как культурно-исторической общности, претендующей на обретение собственной политической субъектности. Если в рамках политических теорий гоббсовской традиции в фокусе внимания, закономерно, политическое существование, то романтические концепции фиксируют внимание на том, что становится политическим, и одновременно, через конструирование и приписывание «народу» некоего набора качеств, утверждают «народ» в качестве «уже наличного» политического субъекта и себя самих как тех, кто говорит от его лица3. Принципиальной новацией оказывается введение Гегелем конструкции «гражданского общества», которая у Штейна превращается в отчетливое противопоставление «государства» и «общества»4 — сюжет, весьма значимый для славянофильской политической теории5.
Общеизвестно, что для славянофильства как течения русской общественной мысли понятие народа является одним из фундаментальных — гораздо более значимым и обсуждаемым, чем, например, понятие государства. В данном случае мы остановимся на трактовке этого понятия лишь в работах Ю. Ф. Самарина — хотя его мысль не является в этом аспекте изолированной от работ других славянофилов, она отличается прямой обращенностью к политическим аспектам и дает ценный материал для наблюдений за функционированием избранного понятия.
Прежде всего, следует отметить, что непосредственное обращение к понятию народа, стремление прояснить его для себя самого в текстах Самарина относится преимущественно к 1840-м гг., к тому периоду, когда славянофильство находилось в процессе становления и основные понятия являлись предметом обсуждения между будущими участниками кружка. Напомним, что вполне сближение А. С. Хомякова и И. В. Киреевского и К. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина приходится на 1842 г., а отчетливая дифференциация от других групп — к 1843–1844 гг.6.
В 1840 г. Самарин пишет К. С. Аксакову о своем мнении «о трех периодах (исключительной национальности, подражания и разумной народности) и двух началах нашей народности, православии и самодержавии»7. Здесь уже явно присутствует триадическая схема развития народности — от первоначальной простоты, нерефлексивной данности, к самоотчуждению и последующему возвращению к себе, «разумной народности», как выражается в данном случае Самарин, или «самосознанию», как станет устойчиво для позднейшей славянофильской лексики (и станет основанием, например, историографической концепции М. О. Кояловича, характерно озаглавившего свою работу «История русского самосознания»).
В письме 1846 г. тому же корреспонденту можно видеть, как соединяются два сюжета — «народ» как основание, субстанция8 и «народ» конкретный, эмпирический, в значении простонародья: «Я начал писать статью о народе или, лучше сказать, о религиозном характере вопроса о значении народа. Мне хочется развить в ней ту мысль, что оправдание народа как народа (не возведение его на другую ступень посредством распространения грамотности и т. д.) предполагает непременно признание односторонности и ложности логического знания, того знания, на котором основывается вся современная образованность, и признание превосходства того знания, которое Хомяков называет жизненным, об определении которого хлопочет Шеллинг и Мицкевич. Одним словом, народ как народ может быть оправдан только с точки зрения религиозной»9.
В развернутом виде понятие «народ» вводится Самариным в 1856 г., в статье «О народном образовании», где представлен итог размышлений, о которых он писал К. С. Аксакову десятью годами ранее. «Оправдывая» «народ», Самарин утверждает: «Нельзя себе представить цельного и свежего народа, который бы не имел веры; а где есть вера, там нет и быть не может исключительной национальности, в смысле народного самопоклонения, в том единственном смысле, в каком национальность может быть противопоставлена развитию человеческого общества. Вера предполагает сознанный и недостигнутый идеал, верховный и обязательный закон; а кто усвоил себе закон и внес его в свою жизнь, тот через это самое стал выше мира явлений и приобрел над собою творческую силу; тот уже не прозябает, а образует себя. Очевидно, что достоинство выработанной народом образованности будет зависеть преимущественно от чистоты его духовных убеждений и от объема и глубины его нравственных требований <...>»10.
Соответственно, в связке с понятием «народ» толкуется Самариным понятие «народность», понимаемое двояко — во-первых, как эмпирическая характеристика свойств и качеств «народа» в данный момент времени и, во-вторых, как — если воспользоваться более поздним, неокантианским понятийным аппаратом — его система ценностей: «<...> под народностью мы разумеем не только фактическое проявление отличительных свойств народа в данную эпоху, но и те начала, которые народ признает, в которые он верует, к осуществлению которых он стремится, которыми он проверяет себя, по которым судит о себе и о других. Эти начала мы называем народными, потому что целый народ их себе усвоил, внес их как власть, как правящую силу, в свою жизнь; но эти же начала представляются народу не народными (т. е. не историческими и ограниченными), а безусловно истинными, абсолютными. Поэтому-то народ и вносит их в свою жизнь, что он в них видит полную и высшую истину, за которою, свыше, и далее которой, не хватает его сознание. Народность этих начал, в смысле их ограниченности, для него не может быть видна <...>»11.
Т. е. именно потому, что «народ» пребывает в этой системе представлений и разделяет эти убеждения, его «народность» является для него «прозрачной», нерефлек-сируемой — проблематичность, рефлексия тем самым изымает субъекта из «народа», при этом он может сохранить свою «народность»12: «Одним словом, народ никогда не выходит из пределов своей народности, не перерастает себя; следовательно, ему не предстоит никогда возможности выбора между народным, сознанным как ложь, и истинным»13.
Другие аспекты понятия народа представлены в серии текстов Самарина 1850 — начала 1860-х, непосредственно посвященных политическим сюжетам. Так, в черновом наброске, относящемся к 1853–56 гг. и озаглавленном издателем «На чем основана и чем определяется верховная власть в России», Самарин пишет о «народе»
в аспекте его отношения к «верховной власти»14: «<...> наше правительство не полновластно. Оно не полновластно потому, что подданные признают над собою власть правительства православного и русского; перестав быть православным и русским, оно перестало бы быть для них правительством. Почему же не сказать, что правительство служит Православной Церкви и России, что вера и народность лежит в основании союза России с правительством, что именно потому и только потому правительство стоит так твердо как в отношении к самой России, так и в отношении к другим державам? Заметим здесь раз навсегда, что отношение верховной власти к народу может быть выражено по пунктам, в форме конституции или хартии, и может быть заключено в глубине живого народного сознания. <...> Но русский человек, хотя он и не домогается юридического, формального ограничения верховной власти, может быть, так же ясно сознает ее назначение, ее естественные пределы, как и англичанин, вычитавший все это в своей конституции, ибо кто признает определенное назначение власти, тот полагает тем самым ее пределы»15.
В данном случае «народ» выступает основанием власти, но затруднительно сказать, насколько в данном случае «народ» понимается эмпирически, как конкретное основание, фактическое условие властвования — т. е. речь идет о легитимности существующей власти, а насколько — о «народе» как источнике власти в рамках концепции «народного суверенитета». Однако уже в 1862 г. Самарин выскажется прямо в защиту последней точки зрения — в статье, представляющей собой черновой набросок заявления по поводу адреса московского дворянства о даровании конституции и, в связи с неподачей последнего, оставшейся не опубликованной до 1881 г., когда ее поместил И. С. Аксаков в «Руси» как авторитетный голос против конституционных толков уже позднейшего времени: «Мы не признаем выработанной западной схоластикой и нашим духовенством повторяемой с чужого голоса теории jure divino. Утверждать, что в силу Божественного закона верховная государственная власть принадлежит какой бы то ни было династии по праву, ей прирожденному , что целый народ отдан Богом в крепостную собственность одному лицу или роду, мы считаем богохульством. <...> Спаситель и апостолы создали Церковь и дали человечеству учение об отношении человека к Богу, но они не создавали государственных форм и не писали конституций. Выработать себе государственную форму, монархическую, ограниченную или неограниченную, аристократическую или республиканскую — это дело самого народа. Каждый народ создает себе власть по своим потребностям и убеждениям, и эта власть, им поставленная, получает значение власти, обязательной для каждого лица, к тому народу принадлежащего»16.
Самодержавие толкуется Самариным как конкретно-историческая форма прав-ления17 и в конечном счете царская власть интерпретируется в качестве производной от «народа»: «У нас есть одна сила историческая, положительная, это — народ, и другая сила — самодержавный царь. Последний есть также сила положительная, историческая, но только вследствие того, что ее выдвинула из себя народная сила, и что эта последняя сила признает в царе свое олицетворение, свой внешний образ (выделено нами. — А. Т. ). Пока этими двумя условиями обладает самодержавие, оно законно и несокрушимо»18.
При толковании приведенных фрагментов полезно обратиться к намного более раннему тексту — трагедии А. С. Хомякова «Дмитрий Самозванец», писавшейся в 1826–1832 гг. В ней, как совершенно справедливо отмечал еще В. И. Кулешов, «Хомяков не видит никакой необходимости уничижать Самозванца. Он ставит ему в вину только одно: Дмитрий послушался Марину Мнишек, иезуитов и не перешел в православие. Сумей сделать это, он удержался бы на троне, стал бы русским царем»19 — и при этом стал бы именно вполне, совершенно независимо от собственного происхождения. Если у Пушкина Самозванца усыновляла «тень Грозного», то у Хомякова — «народ» делал его царем.
Говоря о положении вещей в Российской империи в начале 1860-х гг., Самарин отмечал: «Что народ не может быть ни непосредственно, ни посредственно действующим лицом в какой бы то ни было конституционной форме правления — это, кажется, очевидно. Во-первых, народ не желает конституции, потому что он верит добрым намерениям самодержавного царя и не верит решительно никому из тех сословий и кружков, в пользу которых могла бы быть ограничена самодержавная власть; во-вторых, народ безграмотный, народ, разобщенный с другими сословиями (выделено нами — А. Т. ), народ, реформами Петра выброшенный из колеи исторического развития, не способен, не может принять участия в движении государственных учреждений. Народной конституции у нас пока еще быть не может, а конституция не народная, т. е. господство меньшинства, действующего без доверенности от имени большинства, есть ложь и обман»20.
Остановимся на следующих наиболее значимых, на наш взгляд, аспектах трактовки понятия «народ» Ю. Ф. Самариным:
-
— во-первых, в отличие от «нации», к «народу» невозможно принадлежать, «народ» выступает внешним по отношению к автору, что в 1860-е будет закреплено в концепции «общества» и «народа», наиболее полно выраженной в серии статей И. С. Аксакова: «общество» есть орган самосознания «народа» и, в отличие от последнего, состоит из личностей — тогда как «народ», следовательно, характеризуется «безличностью». Этот ход рассуждений содержится в самом концепте «народа» как «олицетворенной субстанции», как формулировал В. Г. Белинский, у которого в цитированном выше письме 1838 г. мы находим и отграничение «общества» равно от «народа» и от «толпы». В рамках романтического21 понимания «народа» и «народного духа», широко представленного в текстах К. С. Аксакова22, «народ» как субстанция не может быть непосредственно явлен — и здесь легко увидеть пересечение с восходящей к руссоистским представлениям проблемой «общей воли», которая в каждый конкретный момент является проблемой для всякого действующего лица и которая определяется вполне лишь post factum;
-
— во-вторых, «нация» в текстах Самарина23 существенно близка к «народу», может быть использована как синоним, но при этом несет значимый — в том числе, вероятно, из-за своего иноязычного происхождения — отчужденный характер, оттенок публично-правовой. Разница между этими понятиями оказывается особенно заметна, когда в составе политического сообщества помимо «народа» выделяются «другие сословия»: тем самым к «народу» для говорящего оказывается невозможно принадлежать по двум основаниям — в силу того, что «народ» есть «субстанция» и вместе с тем потому, что «народ» понимается как низшие слои, простонародье — и вместе
с тем большинство. Таким образом, говорящий, самосознающий — уже в силу того, что делает это индивидуально — не может к нему принадлежать, единственное, что для него возможно — совпадать в своем мнении с «народом», разделять его суждение, взгляд, но в самом этом «совпадении» уже наличествует двойственность, отграниченность;
-
— в-третьих, «народ» за счет сочетания понимания его как «субстанциального» и эмпирического — народной массы, конкретно существующей — оказывается сложной и динамической конструкцией, поскольку «народ» в смысле простонародья является предметом почитания как носитель «народности», а «народность» есть конкретно-историческое проявление «народа» не-эмпирического;
-
— в-четвертых, данное толкование «народа» в политическом смысле означает утверждение концепции «народного суверенитета», что прямо формулируется в текстах 1850-х — 60-х гг., однако этот тезис в неявной форме можно увидеть и в статье «О мнениях „Современника“...», опубликованной в 1847 г., в которой Самарин упрекает К. Д. Кавелина, что тот, «следя за развитиями Русского государства, <...> упустил из виду Русскую землю, забывая, что земля создает государство, а не государство — землю»24. И вместе с тем в логике раскрытия понятия «народ» в 1860-е гг. у Самарина возникает существенное противоречие — именно потому, что под «народом» понимается лишь часть, пусть и являющаяся подавляющим большинством, наряду с «другими сословиями». Это противоречие хорошо видно в статье 1862 г., где в пределах одного текста понятие «народ» используется в двух значениях — первоначально речь идет о «народе» в политико-правовом значении, как источнике всякой власти, «политическом теле», однако далее «народ» понимается лишь как часть политического сообщества — тем самым политическая расколотость порождается самой конструкцией высказывания: другие группы, другие сословия тем самым — поскольку не являются «народом», источником власти — оказываются либо безвластными, либо «самозванцами», как и пишет Самарин25. И, следовательно, вопреки своим собственным утверждениям о вредности конституции именно для данного момента, Самарин не оставляет для нее теоретического места — ведь «царь» и «народ» оказываются единственными «положительными силами», т. е. выстраивается цезаристская конструкция26. Теоретическим выходом здесь является концепция «общества»27, однако и в этом случае «общество» не отождествляется с «народом» — что и закономерно, поскольку различие между «обществом» и «публикой» и состоит в том, что «общество» есть выражение, самосознание «народа» и, следовательно, постоянно находится под вопросом28.
В заключение остановимся на другом аспекте понятия «народ», не имеющем прямого политического звучания, но весьма значимом с точки зрения изменения публичной коммуникации. Авторитет, приобретаемый эмпирическим «народом», т. е. крестьянством, через связь с «народом» субстанциальным ведет Самарина к особой чувствительности к объективации «народа»: в статье 1856 г. «О народном образовании» одним из центральных пунктов авторской полемики является восприятие
«народа» в качестве «сосуда», атака на просвещенческую логику как логику по-лицеирования, связки «знания — власти»29. «Просвещаемый» оказывается субъектом — как настаивает Самарин, «что же <...> значит учение без свободного усвоения, без внутренней оценки, без суждения и выбора? Так можно учить дитя, но разве так можно учиться ?»30. Иерархия знания тем самым автоматически не оборачивается в иерархию власти — благо другого, пусть даже объективно признаваемое, не является основанием для власти над ним, без его собственного согласия, более того, осуществление почитаемого благом для другого таким образом делает по меньшей мере сомнительным возможность сохранить ему статус «блага». «Другой», «иной» — отличный от просвещенного субъекта — оказывается не тем, кто должен быть унифицирован, превращен в «своего», а обладающим своей собственной логикой и собственными основаниями действия: их внешняя неразумность или чуждость для постороннего взгляда сама по себе не является основанием для их отвержения. «Народ» как «субстанция», подлежащая прояснению, оказывается в этом случае продуктивной конструкцией — не позволяющей отождествить «непонятное» с «неразумным» и, напротив, побуждающей предполагать не только смысл, но и возможную истинность за действиями и правилами, для внешнего взгляда представляющимися непонятными.
Список литературы О понятии народа в текстах Ю. Ф. Самарина
- Аксаков И.С. Отчего так нелегко живется в России? / Сост., вступ. ст. В. Н. Грекова; подгот. текста, прим. В. Н. Грекова, Н. А. Смирновой. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002.
- Белинский В.Г. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 9: Письма 1829-1848 годов / Ред. тома В. И. Кулешов; сост. М. Я. Поляков; подгот. текста В. Э. Бограда; прим. К. П. Богаевской и А. Л. Осповата. М.: Художественная литература, 1982.
- Валицкий А. В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства / Пер. с польского К. Душенко. М.: Новое литературное обозрение, 2019.
- Киреевский И.В. Полное собрание сочинений: В 3 т. Т. 3: 1850-1856 / Сост. А. Н. Николюкина. СПб.: Росток, 2018.
- КулешовВ.И. Славянофилы и русская литература. М.: Художественная литература, 1976.
- Манн Ю. В. Русская философская эстетика. М.: МАЛП, 1998.
- Нольде Б. Э. Юрий Самарин и его время / Сост. С. М. Сергеев. М.: Эксмо, 2003.
- Самарин Ю. Ф. Избранные произведения / Сост., вступ. ст. Н. И Цимбаева; прим. Н. И. Цимбаева и Н. А. Смирновой. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1996.
- Самарин Ю. Ф. Собрание сочинений. Т. XII. М., 1911.
- Самарин Ю.Ф. Статьи. Воспоминания. Письма / Сост. Т.А. Медовичева. М.: ТЕРРА, 1997.
- ТесляА.А. К характеристике политической теории славянофилов: о воззрениях И. В. Киреевского // Вестник СФИ. 2019. № 31. С. 189-203.
- ТесляА.А. Концепция общества, народа и государства И.С.Аксакова. (Первая половина 1860-х годов) // Полития. 2013. № 1. С. 65-79. DOI: 10.30570/2078-5089-2013-68-1-65-79
- ТесляА.А. «Речи к немецкой нации» Фихте: нация, народ и язык // Полития. 2014. № 1. С. 80-91. DOI: 10.30570/2078-5089-2014-72-1-80-91.
- Тесля А. А. «Славянский вопрос» в публицистике М. П. Погодина 1830-1850-х гг. // Социологическое обозрение. 2014. Т. 13. № 1. С. 117-138. 29 30
- Филиппов А. Ф. Систематическое значение политических трактатов Руссо для общей социологии // Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. М.: КАНОН-Пресс, Кучково поле, 1998. С. 325-340.
- Филиппов А. Ф. Элементарная социология: Введение в историю дисциплины. — М.: Группа компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс», 2019.
- ЦимбаевН.И. Славянофильство: Из истории русской общественно-политической мысли XIX в. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.