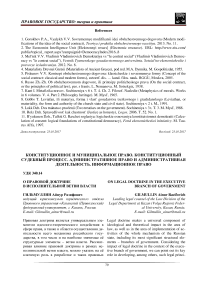О правовой доктрине в исполнительной ветви власти
Автор: Гильмуллин Айнур Разифович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Статья в выпуске: 1 (47), 2017 года.
Бесплатный доступ
Правовая доктрина является универсальным элементом идеолого-теоретического воздействия в сфере права, а также в области осуществления деятельности всего механизма российского государства, в том числе и на наиболее значимые её структурные элементы - ветви власти. Рассматривая влияние правовой доктрины в рамках исполнительной ветви власти, можно указать на её ключевую роль в разработке и таких правовых принципов, как: ответственность, эффективность, системность, результативность, прогностичность. Эти принципы, в свою очередь, служат ориентиром, как для правотворческой, так и для правореализационной деятельности. При осуществлении исполнительной власти правовая доктрина помогает определить баланс между различными административно-правовыми институтами и границы разумного правоприменения, между централизацией и децентрализацией власти, а также способствует надлежащему толкованию права. Правовая доктрина разрабатывает положения, которые способствуют обоснованию действующей формулы исполнительной власти. Можно не сомневаться, что при отсутствии такого научно-обоснованного, регулятивно-прикладного элемента правовой системы государства как - правовая доктрина, органы исполнительной власти в том виде, в котором они существуют сейчас в нашем государстве, существовали бы в принципе.
Правовая доктрина, исполнительная власть, закон, системность, ответственность, элемент, государство, субъект
Короткий адрес: https://sciup.org/142232727
IDR: 142232727 | УДК: 340.14
Текст научной статьи О правовой доктрине в исполнительной ветви власти
Как следует из содержания Конституции Российской Федерации, Правительство Российской Федерации олицетворяет собой высший коллегиальный орган исполнительной власти, который реализует ряд основных государственных функций и неизбежно испытывают влияние правовой политики, а её деятельность отражает в определенной степени процесс восприятия принятых законов в рамках общественного сознания. При этом надлежаще сформулированные положения правовой доктрины способствуют в деятельности органов исполнительной власти качественному толкованию и исполнению законов, выступая вспомогательным элементом практического применения.
Необходимо отметить, что в большей части субъектов Российской Федерации существует собственная система органов исполнительной власти, руководит которой высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации [1, c. 34–38]. Независимо от названия данного высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (президент в Республике Татарстан, глава, губернатор в областях и прочие), он, как правило, выполняет определённые функции, заключающиеся в координации и руководстве другими органами исполнительной власти субъекта.
Исполнительная власть строится на принципах административного права, характеризуется иерархичностью, системностью. Поэтому необходимо отразить данный аспект на примере взаимосвязи правовой доктрины и исполнительной ветви власти посредством административных категорий.
Административная реформа в России в своей основе была направлена на конструктивные и фундаментальные изменения исполнительной власти для придания ей большей эффективности и четкой системности. В этой связи будет правильным изложить связанные с доктринальным воззрением проблемы административно-правового характера.
Правовая доктрина помогает формировать юридические механизмы, в том числе и административно-правовые, которые могут быть использованы в рамках создания отдельного ее направления – административной доктрины, обеспечивающей не только административную, но и конституционную реформы, направленные на улучшение всей исполнительной системы.
Правовая доктрина способствует совершенствованию системы законодательства в сфере административно-исполнительной власти через доктринальное изучение и обоснование ее содержания и функционирования.
В рамках правовой доктрины могут быть выражены основные принципы деятельности исполнительных органов, а также, отражая в своём содержании аспекты координации (соотносимости), основополагающие начала деятельности всего механизма государства и его части. В содержание правовой доктрины можно включить положения, которые способствовали бы нахождению пределов и ограничений для деятельности государственного аппарата. Кстати заметим, что в административном праве возможна личная интерпретационная деятельность должностного лица в пределах дискреционных полномочий, по усмотрению.
Правовая доктрина определяет цель совершенствования исполнительной системы через проработку категории «юридическая ответственность должностных лиц». Повысить уровень этой самой ответственности предлагается через свойство транспарентности деятельности государственных органов.
Правовая доктрина дополнительно позволяет исследовать и изучать соотношение частного и публичного интересов в праве, поскольку концепция приоритета прав и свобод человека и гражданина, как отмечается, «не получила приемлемого решения в административно-правовых институтах» [2, c. 220]. Поиск подобных принципов по соотношению и нахождению баланса в интересах есть первооснова для развития всей системы исполнительной власти и для правильного расставления акцентов в правовом регулировании общественных отношений.
Возможности правовой доктрины отражаются в поиске таких приоритетов осуществления полномочий исполнительной властью, как разграничение компетенции органов исполнительной власти в рамках децентрализации и централизации, поскольку и в настоящее время существуют серьезные проблемы в рамках данного явления. Власть делится по вертикали не всегда прямолинейно и очевидно.
Оптимизировав классификационные подходы к системе государственных органов и распределив их по категориям не только в доктринальном, но и в законодательном ключе, правовая доктрина сталкивается ещё с одной задачей, а именно, с необходимостью обоснования для властных институтов области применения регламентов по оказанию публичных услуг, которые в некоторых субъектах России находятся ещё не на должном уровне. Инструктивное мышление и формализм порой может быть преодолен только на уровне внедрения правильного понимания деятельности через научно обоснованную связь действий органов власти с их целями и социальным предназначением. В ином случае неизбежен бюрократизм и волокита.
Наконец, основная задача, которая стоит перед правовой доктриной в рамках исполнительной власти, заключается в том, чтобы повысить степень взаимосвязи и взаимодействия личности, институтов гражданского общества и органов исполнительной власти. Это не антагонистические, а взаимодействующие и взаимозависимые элементы. Нет оснований их противопоставлять, поскольку они одинаково нуждаются друг в друге. Личность не способна самостоятельно достичь целей, требующих властного сопровождения. Существование властных органов без общества не имеет смысла.
Правовая доктрина «перекидывает мосты» между общенаучными понятиями и правовой деятельностью органов исполнительной власти.
Такие категории, как системность и эффективность (выделено мной – Г.А.) , в современной правовой жизни России стали довольно актуальными в силу их самой природы. Реформирование государственной системы требует перестройки правовой системы, а сделать

это с минимальными издержками невозможно без соподчинённости, слаженности и достаточной продуктивности вкладываемых ресурсов. В некоторых аспектах эффективность выходит на первый план, отодвигая требования системности. Это происходит потому, что, переходя на рельсы рыночной экономики, государство стало отдавать отчёт в большей мере фактору ограниченных ресурсов, получению результатов за минимальное количество времени, необходимости конкурентной борьбы и прочее.
Компетентность исполнительной власти, как представляется, это одна из основополагающих категорий данной ветви. Как отмечает М.П. Петров, «неопределённость компетенции становится причиной безответственности. Чем абстрактнее и многочисленнее положения закона, тем больше можно требовать с подчинённых в административном плане. Ответственность личная понимается в негативном плане, замещает объём правовой ответственности публичной власти в целом как системы, которая к тому же действует в неопределённых правовых рамках, что есть не что иное, как безответственность» [2, c. 233]. Поэтому определённость законодательных норм в плоскости их выполнения исполнительными органами власти является необходимой. Обеспечить такие запросы исполнительных властей в силах лишь чёткая, формально определённая и концептуально проработанная правовая доктрина. И здесь можно отметить ту роль правовой доктрины, которая выступает в осознании её взаимосвязи с реальной жизнью. Эффективность исполнения нормативных актов – залог развития данного органа и направления деятельности. Именно правовая доктрина способна конфигурировать, структурировать и предложить особые пути выполнения для исполнительной власти тех или иных правовых актов, предложить наиболее оптимальные алгоритмы их осуществления.
Правовая доктрина способна также концептуально разграничить компетенцию властей, в некотором роде индивидуализировав её путём закрепления основных догм и положений в своём содержании и тем самым способствуя облегчению разрешения поставленных перед исполнительной властью конкретных задач. Правовая доктрина в рамках исполнительной власти способна также упорядочить и правовую политику в исследуемой сфере. Правовая доктрина способна определить точку баланса и в таком явлении, как централизация и децентрализация публичной власти. Именно децентрализация, которая так насущна в современном мире, может предполагать не только определённые региональные полномочия, но и увеличивает степень ответственности исполнительной власти в целом. При этом, чем конкретнее положение закона, устанавливающего полномочия, права и обязанности, тем реальнее ответственность [2, c. 233.]. И правовая доктрина также действует и в данной сфере, разрабатывая, устанавливая и/или устраняя неэффективные положения и правовые конструкции [3, c. 26] .
Здесь стоит заострить внимание на том, что большинство элементов исполнительной власти, которые и напрямую взаимодействуют с гражданами, это обычные служащие всевозможных администраций, управлений, комитетов, отделов, филиалов и прочих управленческих ячеек. Эти служащие непосредственно не могут видеть ни направлений движения, ни самой цели правовой доктрины не потому, что выступают какими-то недальновидными или малограмотными, а потому, что эта проблематика находится в компетенции вышестоящих инстанций и центральных руководителей. Здесь мы имеем в виду то, что большинство поправок и изменений, как в законотворческой, так и в административной сфере происходит без участия обычных служащих. Проекты новых должностных инструкций, проекты положений о комиссиях, типовые уставы филиалов государственных учреждений и прочие выраженные в текстовом формате программные и типовые документы разрабатываются в расчёте на первоначальные концептуальные положения, которые хотелось бы видеть в унифицированной форме в том или ином государственном органе. Именно в центральных аппаратах исполнительной власти разрабатываются основные документы, которые как раз и основаны на правовой доктрине со всеми своими концептуальными положениями и нормами. И лишь затем, когда будут пройдены все процедуры и одобрены окончательные тексты нормативного матери- ала, все они (в виде официальных писем, указов, приказов, распоряжений, разъяснений и прочей форме) спускаются в нижестоящие инстанции в работу. И здесь может произойти недопонимание, в силу того, что составители различных нормативных актов или актов правоприменения могут быть прекрасно осведомлены о правовой доктрине, а конкретные служащие низшего и среднего звена видят только документы, присланные и отписанные руководством им в работу. Но в любом случае правовая доктрина в той или иной форме выступает регулятором правоотношений между гражданами (например, через порядок регистрации или оформления установленных документов и прочее), поскольку основы правовых положений не могут разрабатываться вне правовой доктрины.
Нельзя не отметить то обстоятельство, что для нормального функционирования государственной власти необходимо наличие открытого и взаимосвязанного правового пространства, которое не может существовать в условиях юридического вакуума. Правовая доктрина, в свою очередь, помогает органам государственной власти преодолеть и правовой, и информационный дефицит (имеется в виду недостаточность и информации именно о практике применения правовых конструкций и правовых институтов за рубежом). И эта проблема также является достаточно насущной как для данного исследования, так и для государственного строительства вообще. Как отмечается в научной литературе, даже наиболее положительные правовые начала в виде основных принципов правовой действительности и государственных основ нашего общества не могут существовать в условиях юридического вакуума, который сложился около самого значимого по своему характеру ветви власти – исполнительной [2, c. 240]. В этой связи состояние исполнительной власти во многом обусловлено качеством административного законодательства, его системными свойствами, адекватностью норм, потребностями современной системы государственного управления и прочими элементами, основу которых закладывает именно правовая доктрина [2, с. 240].
Сложности в деятельности исполнительной ветви власти сводятся порой к личностным факторам, являются производными от позиций и бюрократизма управленческих элит, которые не всегда поддаются чёткому правовому воздействию, поскольку существо данных проблем формируется не в правовой плоскости, а в сферах личностно-социальной, национальной и исторической, что отражается на внешних проявлениях осуществления деятельности исполнительной ветви власти, ее образе и традициях. В исполнительных органах, в отличие от законодательных, превалирует не транспарентность, а административный порядок, которому свойственна закрытость и возможность интерпретации решений. Преодолеть определённое «своеволие чиновников» исполнительной системы могут лишь доктринально обоснованные правовые пределы и чёткое закрепление полномочий исполнительной должности.
В рамках современного доктринального воззрения необходимо отметить и такое направление, как антикоррупционная деятельность всех государственных органов власти. И элементы борьбы с коррупцией появляются не только в рамках исполнительной ветви власти. Анализируя материалы научного исследования данной проблематики, мы можем говорить о том, что с момента появления самого «чиновничье-бюрократического аппарата» в России в XVI в. и до настоящего времени основные коррупционные проявления наблюдались именно в распределительной деятельности того или иного государственного органа, а управление и распределение – это по своей природе, исполнительно-распорядительная власть [4, с. 181]. В признанной на государственном уровне доктрине могут находиться безусловные элементы борьбы с различными отрицательными проявлениями человеческой природы. Как известно, коррупция – это в большей степени психологическое явление, имеющее правовые последствия. В рамках борьбы с коррупционными правонарушениями принимаются целые комплексы федеральных, ведомственных и локальных нормативно-правовых актов, направленных именно на разъяснения, предотвращение и наказание за совершение коррупционных преступлений [5]. Постоянная работа по концептуальному продвижению идей правовой док-
трины может способствовать существенному снижению уровня различных преступных проявлений. Исполнительная власть как нельзя лучше подходит для реализации целого комплекса правового материала, предложенного законодательной властью и научным сообществом.
Подводя итог, следует отметить, правовая доктрина содействует исполнительной ветви власти при толковании законодательных норм для достижения большей их эффективности, интерпретирует практику применения того или иного правового института в определённых условиях. В случае исключения из арсенала властных средств концептуальных положений, которые выдвигает извне правовая доктрина, исполнительная власть придёт в состояние стагнации, не будет способна ощущать интеллектуальной реакции на свою деятельность, что будет обусловлено именно исключением доктринального взгляда на сложившуюся практику и направления применения тех или иных правовых норм. Поэтому можно с полной уверенностью говорить о том, что правовая доктрина, в частности, выступает безусловным элементом исполнительной власти.
Правовая доктрина теоретически моделирует исходные параметры социальноцелесообразного правомерного взаимодействия всего субъективного состава (госслужащего, руководящего состава) исполнительной власти и в силу этого является теоретико-правовым инструментом формирования должного и справедливого правомерного поведения субъектов права. Она способна, во-первых, дополнять регулятивный потенциал права; во-вторых, вместе с другими идеологическими средствами через творческий ресурс правосознания человека эффективно осуществлять разноуровневое воздействие на любую практику, прежде всего, практику оптимизации исполнительной власти и повышения эффективности его функционирования.
Список литературы О правовой доктрине в исполнительной ветви власти
- Коковихин А.Л. Взаимодействие органов исполнительной власти Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской федерации/Вестник Челябинского государственного университета. 2003. Т. 9. № 2. С. 29-31.
- Петров М.П. Системность и эффективность правовой основы исполнительной власти как условие инновационного развития Российской государственности/Системность и эффективность правовых актов в современной России: монография/под ред. А.В. Малько, Р.В. Пузикова; М-во обр. и науки РФ . Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011.
- Мироненко, М. Б. Принципы юридической ответственности в системе принципов права: автореф. дис.. канд. юрид. наук. Саратов, 2001.
- EDN: NLXECV
- Голованова Е.И. Правовые основы борьбы с коррупцией в России в XVI -XIX вв. (Историко-правовое исследование): дис.. канд. юрид. наук. Москва, 2002.
- EDN: NMDHJP
- Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы»/Российская газета. 2016. 13 апр.