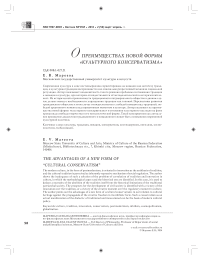О преимуществах новой формы «культурного консерватизма»
Автор: Мареева Елена Валентиновна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Модель устойчивого развития секция
Статья в выпуске: 2 (58), 2014 года.
Бесплатный доступ
Современная культура в лице постмодернизма сориентирована на новацию как антитезу традиции, а культурная традиция воспринимается как изначально репрессивный механизм социальной регуляции. Автор показывает неадекватность такого решения проблемы соотношения традиции и новации в культуре, при котором отождествляются её методологический и исторический аспект. Из исторической ограниченности традиционного патриархального общества в данном случае делают вывод о необходимости упразднения традиции как таковой. Перспективы развития гражданского общества в этом случае отождествляются с победой новации над традицией, победой креативного момента над нормативным моментом в культуре. Автор указывает на преимущества новой формы «культурного консерватизма» в отношении культурного наследия на фоне пропаганды свободы творчества в его нигилистической форме. Такой консерватизм как актуальное проявление диалектики традиционного и новационного может быть основанием современной культурной политики.
Культура, традиция, новация, консерватизм, постмодернизм, нигилизм, космополитизм, глобализация
Короткий адрес: https://sciup.org/14489718
IDR: 14489718 | УДК: 008:1-027.21
Текст научной статьи О преимуществах новой формы «культурного консерватизма»
МАРЕЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА — доктор философских наук, профессор кафедры социально-философских наук Московского государственного университета культуры и искусств MAREEVA ELENA VALENTINOVNA — Full Doctor of Philosophy, Professor of Department of social and philosophical sciences, Moscow State University of Culture and Arts
В самом общем виде понятие «традиция» означает преемственность, передачу по наследству — не только собственности, но любого культурного продукта. И в этом смысле традиция и новация — необходимые стороны культурной жизни в любом её проявлении. Традиция без новации чревата застоем, новация без традиции — невозможностью удержать, передать и закрепить любое достижение. Все будет новым в ситуации, когда не с чем сравнивать новацию.
На этом фоне современная культура сориентирована на новацию как на антитезу традиции. По крайней мере, таков момент её самоосознания. Парадоксальным образом отрицание традиции, в свою очередь, превратилось в традицию. Сохраняющийся с конца ХХ века культ новации в современном интеллигентском сознании ассоциируется с постмодернизмом, в противоположность модерну. Притом, что необходимость критики и самокритики была провозглашена уже отцами-основателями философии Нового времени Ф. Бэконом и Р. Декартом.
Секрет здесь, однако, в стирании принципиальной грани. Учение об идолах Бэкона и методологическое сомнение Декарта направлены против слепого следования традиции, прежде всего, там, где авторитет Аристотеля в науке был сродни авторитету Священного Писания. Но потребность науки и философии в анализе собственных оснований, не говоря уже о теоретических построениях, не отменяет самого поиска истины.
Стремление к истине у Бэкона не является «идолом», истина не является объектом критического опровержения у Декарта. Но один из «трендов» постмодернизма как картины мира как раз в стирании границ. А потому в постмодернистском сознании новое становится антиподом истинного. Истина, справедливость, святость — любой идеал и принцип — становятся здесь символом репрессии.
В книге «Культура как репрессия» известный культуролог А.Я. Флиер характеризует постмодерн как поиск новой культуры, основанием которой является «реакция на её переизбыток, уже мешающий жить и чувствовать себя свободным» [7, с. 297]. Переизбыток культуры в данном случае понимается как господство в ней репрессивной нормативности. Парадокс в том, пишет Флиер, что большинство подобных норм не имеет под собой никакого объективного обоснования. Просто так сложилось исторически (в культуре данного народа). А в культуре другого народа сложилось иначе. А потому «общим для различных вариантов постмодерна можно считать его отвержение “зарегулированности” социальной жизни культурными нормами (воплощёнными в культурных тек-стах)…призывом к деконструкции культурных текстов и эклектичному смешению художественных языков, отвержением доминирующих представлений об истории и социальной реальности, как набора заведомых нарративов и симулякров» [7, с. 291—292].
С одной стороны, у Флиера речь идёт о преодолении «зоны торжества традиционализма», где нормально следовать историческим традициям. Именно с этим борется постмодерн. Это борьба с сохранившимися традиционными сообществами, с присущей им «тотальной зависимостью общества от исторически унаследованной культуры и её традиций, — пишет Флиер, — являющихся плодом решения проблем совершенно другого времени. Жизненные обстоятельства меняются, а культура меняется гораздо медленнее, в меньшем объёме и глубине» [7, с. 294].
Но, с другой стороны, речь здесь идёт о постмодерне как борьбе с репрессивностью традиции как таковой. Хотя культурные нормы всегда являются случайными конвенциями, читаем мы у Флиера, до сих пор их признавали культурными традициями. Но традиция как признание нормы и эталона — «инструмент культурного принуждения». Традиция по большому счету является выражением репрессии. А потому от культуры, основанной на традиции, человечест- во переходит к культуре как предпосылке творчества.
Постмодерн со второй половины ХХ века, считает Флиер, и стал поиском обоснованного места культуры в современном обществе. Если до сих пор культура была по преимуществу «механизмом социальной регуляции, то ныне начинают преобладать её креативные (творческие) функции» [7, с. 295]. Но как возможна креативная функция культуры без нормативной? Разве не репрессивны правила дорожного движения в самых передовых сообществах? Без элемента репрессии невозможна самая передовая правовая система. И хотя в Интернете не только «корова», но и другие слова пишут, как попало, и стёрта грань между цензурным и нецензурным, тем не менее, сохраняются правила приличного поведения. А если мы хотим стать современными интеллектуалами западного типа, то должны иметь общие критерии того, кто такой «интеллектуал», что такое «современный» и чем «Восток» отличается от «Запада».
Здесь перед нами все та же тенденция к стиранию границ, в культурологии в том числе, когда одна проблема накладывается на другую. Один вопрос — преимущества и недостатки традиционного общества вчера и сегодня, что не отменяет, кстати, вопроса о минусах «современного» западного общества. И другой вопрос, какова диалектика традиции и новации в любом творческом процессе, где, подчеркнём, всегда существовала антитеза волюнтаризма и догматизма.
В том, что волюнтаризм абсолютизирует новацию, а догматизм — традицию, как моменты культурного творчества, — азы философии. В этом свете методологический анархизм Пола Фейерабенда является как раз протестом против нарастания догматизма в науке ХХ века [6]. Это был протест против догматизма в понимании методов научного познания, что не делает продуктивной данную крайнюю позицию. Понятно, что постмодернизм — радикальный протест против нарочитого академизма в культуре. Но край- ности сходятся, и культ свободы творчества оборачивается деградацией и повторением задов, что и произошло в современной англо-американской философии [3].
В работе «Культура как репрессия» А. Я. Флиер присоединяется к критике идеалов Просвещения, представленных в данном случае как идеалы разума и демократии. «Принципы индивидуальной социальной и культурной свободы, разработанные Просвещением, американской конституцией, британским либерализмом, Гражданским кодексом Наполеона и т.п., — пишет он, — уже не удовлетворяют потребности в интеллектуальной свободе высокообразованных людей» [7, с. 295]. И, прежде всего, потому, считает Флиер, что в теории и практике либерализма все строилось и строится до сих пор на интересах коллектива, а интересы индивида при этом не берутся в расчёт
Вызов либерализму в данном контексте не случаен, поскольку в новоевропейском либерализме, начиная с Д. Локка, шла речь о гарантиях прав личности, прежде всего, в политической и хозяйственной жизни. И «репрессивность» так понятой демократии проистекала из необходимости гарантировать не только свободу каждого, но и свободу всех.
Но уже в эпоху Просвещения у маркиза де Сада идея личной свободы предполагает освобождение не только от социального гнёта Личная свобода здесь осознается как абсолютная свобода телесных проявлений, по сути как полная свобода натуры от культуры. Ту же позицию уже в ХХ веке занял З. Фрейд. То, что моральные и религиозные нормы репрессивны в отношении зова тела, — главная идея З. Фрейда. И как раз он впервые и однозначно провозгласил идею репрессивности культуры. Потому не случайно в глазах Флиера в период создания работы «Культура как репрессия» современными борцами за освобождение личности оказываются представители ЛГБТ-сообщества. Именно здесь, с данной точки зрения, главный фронт борьбы между традиционалистами и новаторами, где под традиционализмом имеют в виду существующие нормы религии и морали.
Но и в этом историческом аспекте проблемы «традиция и новация», следует различать, а не стирать различия. Ведь одно дело, модернизация традиционных сообществ, что собственно, и осуществляет глобализация, вовлекая весь мир в хозяйственную и политическую жизнь постиндустриального общества. Исторически такая модернизация шла через превращение земледельческого труда в индустриальный, через разрушение сословных связей, через смену власти авторитета равным для всех законом, а также смену идеологии, где принцип веры уступает главенству аргументам разума. Борьба с такого рода традиционализмом, или патриархальностью, шла в Европе с ХVII века, и не нужно быть «просветителем», чтобы констатировать её победу в мировом масштабе.
Тем не менее, острие постмодернистского дискурса в наши дни направлено на победу над традицией в той области, которую обычно отделяют от экономики и политики. Под «зонами торжества традиционализма» имеют в виду регионы, где придерживаются традиционных норм морали и религии, гарантируемых, прежде всего, обычным правом, а не юридическим законом. Если отбросить эвфемизмы, речь, конечно, идёт об исламском мире, ряде католических стран и, конечно, о нашей стране, где пропаганде ЛГБТ-сообщества пытается противостоять православие. И в этом свете в современных спорах о традиционализме важно осознавать идеологическую подмену, когда защита классических традиций в духовной культуре выдаётся за консервацию экономической отсталости и реакционных политических режимов. Соответственно, борьба с устаревшими социально-политическими устоями переходит в противостояние нравственности и культуре вообще.
Разводя социально-политическую и культурную составляющую современной борьбы с традиционализмом, не стоит упрощать си- туацию, поскольку среди защитников классического культурного наследия оказываются как верующие, так и атеисты. И здесь стоит вспомнить, что христианство было духовной реакцией на нравы Древнего Рима, который они именовали не иначе, как Вавилонской блудницей. «Вавилон значит Рим; что неведомо постороннему, то хорошо знает христианский читатель. Всё, что сказано о Вавилоне, в действительности относится к Риму» — читаем в Комментарии Баркли на Откровение Иоанна в главе 17 [1].
Христианский обет безбрачия — это радикальное отрицание культа разврата. Хотя под развратом в данном случае имеется в виду не только и не столько чрезмерная сексуальность, но чрезмерное внимание к телу и его утехам — чревоугодие, роскошь, прожигание жизни. «Чтобы никто не подумал, что это приговор ограниченного христианина, — читаем мы там же, — вспомните, что римский историк Тацит назвал Рим, “местом, в которое со всего света стекается все самое ужасное и бесстыдное и пользуется там самой большой популярностью”; а философ-стоик Сенека назвал Рим “отвратительной сточной трубой”. В сравнении с картинами, нарисованными римлянами, картина нарисованная Иоанном, даже более сдержанна. Вот в такую цивилизацию пришло христианство…» [1]. Но опять же, когда крайности сходятся, перед нами все то же лицемерие и разврат, сыгравший свою роль в религиозной Реформации с XVI века.
Уважая традиции античности, гуманисты эпохи Возрождения не отказывались от христианского превосходства стремлений духа над стремлениями тела. Даже в атеистической критике Просвещения сохранялась приверженность классическим идеалам Истины, Добра и Красоты, к которым, вместо или рядом со Святостью, буржуазная эпоха поставила Свободу, Равенство и Справедливость. Собственно «скрепами» классической культуры является не только «априорное» превосходство духовного над материальным, но и признание прин- ципиальной разницы между тем и другим, которую как раз и пытается преодолеть постмодернизм как тип мировоззрения и культуры.
Культурным «традиционалистом», в одном ряду с либералами, в данном случае оказывается революционер В. И. Ленин, который был противником художественных экспериментов Пролеткульта. И в этом выразилась как раз не непоследовательность, а адекватность позиции Ленина историческим обстоятельствам. Коренную перемену точки зрения большевиков после революции он видел в том, что раньше все было направлено на политическую борьбу, а теперь центр тяжести сводится к «культурничеству». Но не в создании новой пролетарской культуры видел он перспективу социализма, а в развитии лучших образцов, традиций, результатов уже существующей культуры [2, с. 462]. Своеобразие культурной революции в России, пишет В. М. Межуев, согласно Ленину, состояло не только в усвоении достижений цивилизации, но и в превращении в общественную собственность всей предшествующей мировой культуры в целях развития каждого человека [4, с. 358].
Понятно, что либеральный и революционный демократ, христианин и атеист будут прочерчивать в мировой культуре собственную традицию, проставлять свои акценты. Но их объединяет взгляд на культурную новацию как на преобразование, а не преодоление традиции. Таким образом, в современных условиях востребован новый вариант «культурного консерватизма» как ответ на постмодернистскую версию нигилизма в культуре.
«Современный интеллектуал нуждается в статусе гражданина мира, — пишет Флиер,
— не ограниченного никакими этно-национальными культурными нормами, в статусе интеллектуала-космополита» [7, с. 296]. Космополитизм, как известно, манифестировали античные киники, у которых отказ от общепринятого выражался в своеобразной аскезе как предельном упрощении потребностей, что, в свою очередь, предполагало силу характера, воли, духа. Хотя, в отличие от христиан, киники стремились не к Богу, а к природе, где не было места привязанности к роду, жилищу, нормам полисной жизни.
Современная глобализация, унифицируя образ жизни людей, в данном случае также отрывает их от исторических корней, превращает в этом смысле в безродных космополитов. Характеризуя современную мозаичную культуру, Ж. Ф. Лиотар писал: «Эклектизм является отличительной чертой всей современной культуры: человек слушает РЭГ, смотрит вестерн, ест завтрак у Макдональда и обедает в ресторане с национальной кухней, пользуется парижскими духами в Токио и носит одежду стиля “ретро” в Гонконге; знание становится элементом телевизионных игр» [цит. по: 5, с. 18].
Глобализация объединяет сегодня человечество, фрагментируя человеческую личность и её потребности. В этом специфика данного этапа глобализационного процесса. На этом фоне интеллектуал-космополит, оторванный от родины, традиционной и классической культуры, свободно манипулирует фрагментами утраченного, стирая грани между природой и богом, человеком и животным, болью и наслаждением, добром и злом. Такая «игра в бисер» выглядит как выражение предельной свободы, путь к которой прокладывает постмодернизм. Но не все наши современники с этим согласны.
Список литературы О преимуществах новой формы «культурного консерватизма»
- Комментарии Баркли на Откровение Иоанна в главе 17 [Электронный ресурс]: [веб-сайт]. URL: http://www.bible.by/barclay-new-testament/read-com/66/l7/
- Ленин В. И. Набросок резолюции о пролетарской культуре//Полное собрание сочинений. Москва, 1974. Т. 41.
- Мареева Е. В. Д. Серл: старое и новое в понятии сознания//Философия сознания: история и современность. Москва, 2003.
- Межуев В. М. Ленинская теория культурной революции как модернизационный проект для России//Русский марксизм: Георгий Валентинович Плеханов, Владимир Ильи Ульянов (Ленин). Москва, 2013.
- Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию. Москва, 1994.
- Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания. Москва, 1986.
- Флиер А. Я. Культура как репрессия. Москва, 2006.